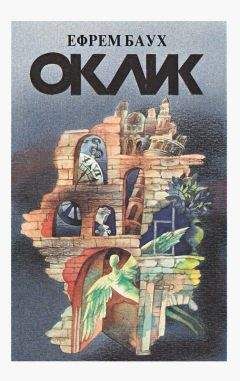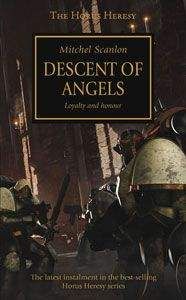На обратном пути делаем несколько привалов, не торопимся, ибо знаем, что, вероятнее всего, это наша последняя поездка в Синай: считанные месяцы остались до того, как начнут отдавать эти земли Египту.
Спускаемся к Тиранским проливам по грунтовой дороге между заборами колючей проволоки, ограждающими еще не обезвреженные минные поля. За узкой, мутно-серой, четко обозначенной полоской прибрежного моря – чернильные воды пролива.
В полуразрушенном бетонном капонире – заклиненное, полузасыпанное песком, неуклюже огромное орудие береговой батареи, брошенной в свое время египтянами без единого выстрела.
Странно представить, как эхо этого невыстрела раскатилось по всему миру, влетев облачком и в окна поезда, несущего меня через Россию на юг, и помнится, в памяти, под стук колес вертелось: Тирана – Медитерана, тирана-медитерана.
Потоки сухого жара опаляют лица и, отбрасываемые движением, заверчиваются сзади, за бортами машин, как за кормой корабля, перемещаются и переливаются между скалами, и такое ощущение, что мы сворачиваем за собой шагреневую кожу пространства нашего существования.
Проскакиваем Невиот.
Заезжаем в Ди-Захав. Место стоянки колен Израилевых, ведомых Моисеем. Полно купающихся, палаток, автомашин, детишек, взъерошенных финиковых пальм, синей дали, мягко втягивающей и успокаивающей сначала взгляд, потом и все твое существо.
Среди рычащих автомашин – первобытный рев тоскующего по дальним странствиям верблюда, которого покрыли рогожкой, ковром домотканным с бело-красными шахматными узорами и огромными малиновыми шнурами; мальчик-бедуин в полосатой кубовой рубахе и белой чалме катает на нем детишек, а то и взрослых за плату, галдеж вокруг невероятный. Верблюд печальным взглядом смотрит вдаль, словно бы еще видит пыль за уходящим в тысячелетия караваном собратьев, вместе с седоками, ношей и погонщиками погружающимся в глубь легенды, которая стелется скудным путем в лучезарно-ослепительную за горами землю обетованную. А его так вот бросили, на растерзание времени, оставили здесь, и вот до чего докатился.
Купаемся.
Ныряем к поверхности неглубоких коралловых рифов: задерживаем дыхание, как задерживают его перед чудом.
Весь Синай – это чудо.
Дорога вьется среди железных гор.
В неверном свете солнца, клонящегося к закату, – черные тени каньонов, угловатые пики гор, лунный пейзаж.
Возвращаемся в Эйлат.
Возвращаемся в древний Эцион-Гевер, где ждет очередная стоянка – нас, наших предков, который год странствующих по Синаю: развалины древней крепостцы Эцион-Гевер, – при виде даже обломка зубчатой крепостной стены мгновенное ощущение беззащитности и окружающей пустыни, от века затаившейся полчищами конных и пеших.
Неожиданно – вставленное в расселины железных дымящихся на солнце гор зеркало – выположенное пространство, и складка его – у горизонта – как бы защемившая толику неба, выжавшая невидимую небесную росу в озеро миража.
Миражи Синая.
С ними труднее расстаться, чем с реальностью.
Он вечен, как самый корень человеческого существования, феномен этой пустыни, жаждущей приобщиться к небу.
Книга третья Под крылом ангела
И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой!.. Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?..
Бытие 22, 7
Судный день. Корабельная сага. Время.
С вечера седьмого октября, в канун Судного дня, ни крошки, ни капли во рту, теснота и гул молящихся в огромном, как трюм корабля, зале, в семидесяти метрах от обрыва к морю, замершему в октябрьском штиле и потому как бы отсутствующему; луна в стрельчатых высоких окнах; и чудится зал ковчегом, вздымающимся на волнах псалмов Давида над мирской суетой, залитой безмолвием, как при потопе: ни движения машины, ни звука радио, ни прожектора самолета, висящего над бездной вод, только из отдаленных переулков вынесет на миг слабый плеск.
И никаких проводов, благословений: поднялся в автобус, махнул рукой.
День был пуст и ветрен. Я пошел к морю. Город, гигантский мегалополис, убегая от высотных зданий, выбрасывал себя в дряхлые прибрежные переулки, ветер нес поземкой ослепительно белый песок между пляжных грибков, окрашенных в белое, и бетонных сараев, покрытых известкой; песок был подобен снегу, и, казалось, белое пространство несется холодом солнечно-снежного дня вдоль моря с горами буро-белой пены, разбивающейся о камни пустынного мола, несется среди жаркой безмятежности августа, замершей островками дремы в береговых складках. Из-за скалы внезапно открылось в даль лукоморье, словно бы вдруг я сбросил десять лет жизни, ощущая себя на лукоморье Коктебельской бухты с восьмилетним сыном по дороге к могиле Волошина.
Водные лыжники пытались взобраться на серые катки волн, летели, падали. По краям обрывов стояли кучками любопытствующие, следя за теми, кто в море: тревожность в их замерших и вглядывающихся в даль фигурах сливалась с леденящей белизной песка и пены. Дальше тянулись редкие кусты среди песков, разрушенное здание с полустертой надписью на стене – "Винный подвал "Цветок Негева". И никого рядом. Только незнакомый мальчик лет восьми бежал к волнам, увязая в песке, и птичий его крик уносило ветром.
Я пошел обратно, в каменный лабиринт, ощущая родство с домами, у которых глухие боковые стены: они вдруг обнаруживались одиноко и слепо беспомощными в высоте и пространстве. Но возникала слабая надежда, стоило лишь в глухой стене оказаться проему, окну, карнизу: мгновенно возникал ток уюта, одомашнивания, успокаивая пространство, открытое ветру и тревоге.
Вдалеке маячили коньки и шпили старого Яффо видением Наполеона, посетившего в этих местах чумной госпиталь: частный случай в потемках истории высвечивался в легенду из уст в уста сквозь время.
Примешивалась ли к моей тяге вернуться к легендам и истокам национальной жизни, в Израиль, жажда риска, заложенного в двусмысленности слова "проиграть": желание проиграть всю жизнь сызнова, как игру по новым правилам, и риск проиграть все? Душа ли теряет стыд и такие мгновенья, внезапно обнажая свои пугающие извивы.
Словно прострелило из щелей прошлого сквозняком набивших оскомину споров в смеси с водкой и скудной закуской – кухонных диспутов российских со времен Герцена: среди пьяной болтовни и судорожного проживания минут мелькает малыш, мой сын, внесший морозную свежесть с улицы в кухонную тесноту, и вот мы уже вываливаемся гурьбой на снег, бежим, несемся на лыжах, мимо кустов, заборов, вниз, к заброшенной парашютной вышке над Комсомольским озером, рядом со мной малыш и грузный, пыхтящий наш сосед; падаю в снег, рассекаю до крови кожу на суставах пальцев левой руки, кровь кажется неправдоподобно яркой в сером обволакивающем холодным угаром дне; через день умирает мама, через пятнадцать лет узнаю, сын соседа уехал в Америку, а он разбит параличом, тучный любитель еды и женщин, всего на несколько лет старше меня – так ткется от человека к человеку мимолетный кусок жизни, и существуешь в нем, не думая о будущем, но раздается трубный глас, белеют шрамы на суставах пальцев, и малыш, который уже выше тебя на голову, махнув рукой, растворяется за поворотом.
Болтовня, как привычная среда проживания, накрывала с головой свинцовыми водами: там мы знали, как не быть патриотами.
Здесь мы не знаем, как ими быть. Для них, сыновей наших, это не знание, а – судьба.
И тайный укор точит сердце…
"Кол нидрей…" – "Все обеты, зароки, клятвы, необдуманно данные самим себе, отпусти нам… ибо раскаиваемся".
Тяжкий вздох огромного зала, как внезапно возникший среди тишины и низин вал, выносит на гребне плач кантора: "Кол нидрей…"
Душа ли теряла стыд, судил ли я криво, возводил напраслину на собственную жизнь, сетовал на судьбу?
«Прости за грехи, которые мы совершили вынужденно и по своей воле…»
Вчера, 6 октября, годовщина войны Судного дня. Целый день – в Иерусалиме. Музей Катастрофы: ослепительное солнце, каменное подобье шатра среди Иудейских гор, щебенка, острые осколки камня, залив олив, дальний олеографический силуэт старого Иерусалима с башней Давида; огромен шатер, масса народа, но слышен каждый всхлип, голосом кантора плачет пространство, неуловимым дымом уносится в отверстие в крыше шатра поминальная молитва – «Кадиш».
Арочное небо пророков Исайи и Иезекииля недвижно.
"Итгадал вэиткадаш…" – «Да возвеличится и воссвятится имя Его…»
Лишь древо жизни обладает прозрением, а я – лист ли, побег корня – слеп, но всеми силами души восстаю против этого: может это и есть самый тяжкий грех, и я должен в нем раскаяться, ибо сейчас, как никогда, боюсь поплатиться?
Солнце клонится к закату над Иудейскими горами.
Тревожное перешептывание по улицам и кровлям: убит президент Египта Садат. Из низовий Нила по радиоволнам еще доносится какое-то бормотание, призванное заменить надежду, но всем ясно: убит.