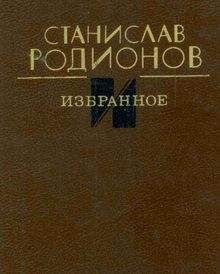Она прищурилась и напрягла лицо — только раздувались ноздри прямого тонкого носа. Рябинин взял авторучку и попытался поставить ее на попа, но ручка не стояла. Тогда он поднял голову и увидел сейф — даже обрадовался, что видит этот металлический здоровый шкаф, на котором можно пока остановить взгляд. Уже повисла пауза, длинная и тягучая, как провода в степи, а он все не мог оторваться от сейфа, словно его только что внесли. Как ему хотелось, до челюстной боли хотелось открыть рот и бросить уверенное: «Да, отпущу». Она бы сначала не поверила, но он бы убедил, уговорил: человек быстро верит. Тогда бы она все рассказала, долго и боязливо, — как бы не обманул, — подписала бы многолистный протокол, сообщила, где лежат деньги. А потом можно что-нибудь придумать, вывернуться. Сказать, например, что хотел выпустить, да прокурор запретил. Потом… Что потом, было бы уже неважно — доказательства есть и протокол подписан.
— Чего ж замолчал? — не выдержала она.
— Нет, не отпущу, — сказал он и посмотрел в ее ждущие глаза.
— Во, первое правдивое слово. Не отпустишь. Зачем же признаваться? В чем легче-то будет?
Она вдруг показалась ему какой-то обмякшей, словно мгновенно утратила свою буйную энергию. Это было секунду-две, но это было. И Рябинин понял: она еще надеялась, и он одной этой фразой лишил ее этой надежды.
— Твоей душе легче будет, совести, — сказал он, уже думая, как использовать ее надежду в допросе.
— Ах, душе… А у меня кроме души и тело есть! Вот оно, вот оно, вот!
Она вскочила со стула и несколько раз хлопнула себя ладонями по груди, плечам и спине. Перед Рябининым мелькнули полные руки, блеснули бедра, взвилась юбка — он даже сначала подумал, что она решила сплясать.
— И неплохое, кстати, — продолжала она, так же стремительно опустившись на стул. — Ты хочешь, чтобы душа ради облегчения заложила тело? Моя душа не такая стерва — она лучше потерпит. Да что там душа… Я же знаю, какая душа всех следователей интересует — у тебя доказательств нет. Вот и нужно меня колонуть.
Рябинин напряг лицо, чтобы оно окаменело и не было той глиной, на которой отпечатывается любая травинка, — он не умел врать. А следователю надо, нет, не обманывать, а уметь хотя бы умолчать или мгновенно придумать что-нибудь среднее, абстрактное — не ложь и не правду.
— Ошибаешься, Рукояткина. Теперь без доказательств людей не арестовывают.
— Значит, доказательств маловато. Ну что, не правда? Ну, скажи, если ты честный, — правда или нет?! Чего глазами-то забегал?
Он почувствовал, как покраснел: от злости на себя, на свои бегающие глаза, которые действительно заметались.
— У меня кроме личной честности еще есть тайна следствия.
— Личная честность… Тайна следствия… Выкрутился. Все вы так. Только мораль читаете. Я хоть по нужде вру, а ты врешь за оклад.
Никакого «слоеного пирога» не получилось. Допрос не шел. Рябинин застегнул пиджак и посмотрел время — он сидел уже два часа, бесплодных, словно ждал попутной машины на заброшенной дороге. Но бесплодных допросов не бывает. Рябинин мысленно высеял из этих двух часов мусор, и осталось два обстоятельства: она не отрицала свою преступную деятельность, но не хотела о ней рассказывать. И она все-таки боялась ареста, как его боится любой человек. Значит, надо долбить дальше, долбить долго и нудно, без всяких теорий и систем, изобретая, придумывая и выворачиваясь на ходу, как черт на сковородке.
— Болтаешь ты много, и все не по делу, — строго сказал Рябинин. — Время только зря тянем.
— Мне времени не жалко. Лучше с тобой потреплюсь, чем в камере-то сидеть.
— Где ты была второго июля с шестнадцати часов? — монотонно спросил он, приготовившись это повторять и повторять.
— Ну и зануда. Как с тобой жена живет!
— Где ты была второго июля с шестнадцати часов?
— Ну что ты попугайствуешь? Надоело.
У него все переворачивалось от грубости, которую он не терпел нигде и нисколько. Но он заслужил ее: сидел, как практикант, и брал подозреваемую измором. Он даже удивлялся себе — не приходило ни одной яркой мысли, словно никого и не допрашивал.
— Про улицу, кино, цирк говорила… Про кафе говорила, — начал Рябинин и вдруг спросил: — А что ж ты про гостиницу помалкиваешь, а?
— Какую гостиницу? — остро прищурила Рукояткина глаза, и он понял, что она может быть злой, такой злой, какой редко бывают женщины.
— Гостиницу «Южную».
— А чего про нее говорить?
— Ну, как была, зачем была, что делала?..
— Да ты что! Чего я там забыла? У меня своя коммуналка с раздельным санузлом имеется.
— А в баре при гостинице ты разве не была? Вспомни-ка…
— Да что мне вспоминать! Если хочешь знать, я вечером сидела в ресторане.
Рябинин не шевельнулся. Он даже зевнул от скуки — до того ему вроде бы неинтересно. Почему следователям не преподают актерского искусства?
— В каком ресторане? — лениво спросил Рябинин.
— Не все ли равно. А в гостинице не была.
Если действительно была в ресторане, то в каком?
В «Белой кобыле».
Я жду. В каком ресторане?
— Имени Чайковского.
— Значит, ты была не в ресторане, а в гостинице, — обрадовался Рябинин.
— Господи, да была, была в ресторане весь вечер.
— Тогда в каком?
Да в «Молодежном» просидела до одиннадцати. Доволен?
Рябинин сделал все, чтобы это довольство не появилось на лице. Он не ожидал, что она так легко скажет про «Молодежный», — ведь это тянуло нитку дальше, к Курикину, к деньгам. Видимо, она путалась в числах, да и в ресторане бывала частенько.
— Что там делала? — спросил он, не теряя выбранного нудно-противного тона.
— Ты что — заработался? Не знаешь, что делают в ресторане? — удивилась она.
— Вопросы задаю я, — отчеканил он.
— Задавай, только правильно их выставляй, — тоже отштамповала она.
— Что делала в ресторане?
— Кушала компот из сухофруктов. Ответы отвечаю я.
— С кем была в ресторане? — наконец спросил он правильно.
— Со знакомым космонавтом. Просил его не разглашать в целях государственной тайны.
— С кем была в ресторане?
— С бабушкой.
— С какой бабушкой? — поймался он легко, как воробей на крупу.
— С троюродной, — начала с готовностью объяснять Рукояткина. — Она сразу же после ресторана скончалась. Опилась компоту. А может, подавилась косточкой.
Рябинин прижал правую ногу, которая дернулась, будто в нее вцепилась собака. Он твердо знал, что стоит дать волю нервам, волю злости — и допрос будет проигран сразу. Сильнее тот, кто спокойнее. А пока было так: он давил ногу — она улыбалась.
— С кем была в ресторане?
— А тебе не все равно?
— Зачем же скрывать? Если не была в гостинице, так скажи, с кем была в ресторане. Хотя бы для алиби.
— А мне твое алиби до лампочки, — отрезала она. — Я была в «Молодежном», это все видели.
— Верно, видели, — значительно сказал он.
— Чего видели? — подозрительно спросила она.
— Сама знаешь, — туманно ответил Рябинин и улыбнулся загадочно и криво.
— Чего я знаю?!
Она смотрела, разъедая его глазами, и Рябинин ждал сейчас взрыва, словно он бросил в печку гранату. И все-таки он сказал веско и медленно, уже без улыбки:
— Знаешь, как пропала у женщины сумка с деньгами.
— Чего-о-о?! — зло запела она. — Ты мне нахалку не шей! Не выйдет! Никаких я женщин не видела! Да за моим столиком и женщин-то не было.
— Кто же был за твоим столиком?
— Да с мужиком я была, не одна же!
— С каким мужиком?
— Обыкновенным, в брюках.
— Так, — заключил Рябинин. — Значит, признаешь, что второго июля была в ресторане «Молодежный» с мужчиной.
Теперь правая нога прыгнула под столом от радости, — неожиданно допрос сдвинулся, как валун с дороги. Он больше двух часов ходил вокруг со стальным ломом, поддевал, надрывался, а глыба лежала на пути не шелохнувшись. Но стоило толкнуть тонкой палкой, как она легко сдвинулась. Тут было три причины. Во-первых, признаться, что была с мужчиной в ресторане, — это еще ни в чем не признаться. Во-вторых, она не знала, в чем ее конкретно подозревают и сколько следствие накопало. И, в-третьих, при такой деятельности, с париками, подставными лицами и чужими квартирами, она боялась не своих преступлений, а тех, которые ей могли приписать, или, как она говорила, «шить нахалку».
— А гостиница-то при чем? — Она вдруг заузила глаза, блеснувшие колючим металлом, будто у нее вместо зрачков оказались железные скрепки. — Подожди-подожди… Ах гад, узнал все-таки… Ну не паразит ты?! Все обманом, как гидра какая. С тобой надо держать ушки топориком. Больше тебе ни хрена не скажу.
— Скажешь, — решил он показать свою уверенность, — куда тебе деваться.
— Поэтому и не скажу, что деваться некуда, — в тон ответила Рукояткина.