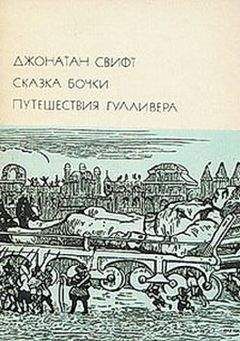Я чистосердечно сознаюсь, что все мои скудные знания, имеющие какую-нибудь ценность, я почерпнул из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями; и я бы с большей гордостью внимал им, чем приковывал к себе внимание величайшего и мудрейшего парламента Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны; и столь редкое соединение добродетелей в столь обходительных существах наполняло меня глубочайшим уважением. Сначала я, правда, не испытывал того естественного благоговения, которым проникнуты к ним еху и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной, притом гораздо скорее, чем я предполагал; оно соединилось с почтительной любовью и живой признательностью за то, что они удостоили выделить меня из остальных представителей моей породы.
Когда я думал о моей семье, моих друзьях и моих соотечественниках или о человеческом роде вообще, то видел в людях, в их внешности и душевном складе то, чем они были на самом деле, — еху, может быть, несколько более цивилизованных и наделенных даром слова, но употребляющих свой разум только на развитие и умножение пороков, которые присущи их братьям из этой страны лишь в той степени, в какой их наделила ими природа. Когда мне случалось видеть свое отражение в озере или в ручье, я с ужасом отворачивался и наполнялся ненавистью к себе; вид обыкновенного еху был для меня выносимее, чем вид моей собственной особы. Благодаря постоянному общению с гуигнгнмами и восторженному отношению к ним я стал подражать их походке и телодвижениям, которые вошли у меня теперь в привычку, так что друзья часто без церемонии говорят мне, что я бегаю как лошадь, но я принимаю эти слова как очень лестный для себя комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я склонен подражать интонациям и манерам гуигнгнмов и без малейшей обиды слушаю насмешки над собой по этому поводу.
Посреди всего этого благоденствия, когда я считал себя устроившимся на всю жизнь, мой хозяин прислал за мной однажды утром немного раньше, чем обыкновенно. По лицу его я заметил, что он был в некотором смущении и раздумывал, как приступить к своей речи. После непродолжительного молчания он сказал мне, что не знает, как я отнесусь к тому, что он собирается сказать. На последнем генеральном собрании, когда был поставлен вопрос об еху, представители нации сочли за оскорбление то, что он держит в своем доме еху (они подразумевали меня) и обращается с ним скорее как с гуигнгнмом, чем как с диким животным. Им известно, что он часто разговаривает со мной, словно находя какую-нибудь пользу или удовольствие в моем обществе. Такое поведение противно разуму и природе и является вещью, никогда раньше неслыханной у них. Поэтому собрание увещевает его либо обходиться со мной, как с остальными представителями моей породы, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. Первое предложение было решительно отвергнуто всеми гуигнгнмами, когда-либо видевшими меня и разговаривавшими со мной, на том основании, что, обладая некоторыми зачатками разума и природной порочностью этих животных, я вполне способен сманить еху в покрытую лесом горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот гуигнгнмов, что так естественно для породы прожорливой и питающей отвращение к труду.
Мой хозяин добавил, что окрестные гуигнгнмы ежедневно побуждают его привести в исполнение увещание собрания и он не может больше откладывать. Он сомневался, чтобы я был в силах доплыть до какой-нибудь другой страны, и выражал поэтому желание, чтобы я соорудил себе повозку, вроде тех, что я ему описывал, на которой мог бы ехать по морю; в этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. Что же касается его самого, заключил свою речь хозяин, то он был бы согласен держать меня у себя на службе всю мою жизнь, ибо он находит, что я излечился от некоторых дурных привычек и наклонностей, всячески стараясь подражать гуигнгнмам, насколько это по силам моей низменной природе.
Я должен обратить внимание читателя, что постановления генерального собрания этой страны называются здесь гнглоайн, что в буквальном переводе обозначает увещание, ибо гуигнгнмы не понимают, каким образом разумное существо можно принудить к чему-нибудь; можно только советовать ему, увещевать его; и кто не повинуется разуму, тот не вправе притязать на звание разумного существа.
Речь его милости крайне меня огорчила и повергла в полное отчаяние; не будучи в силах вынести постигшее меня горе, я упал в обморок у ног хозяина, который подумал, что я умер, как он признался мне, когда я очнулся (ибо гуигнгнмы не подвержены таким слабостям). Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня слишком большим счастьем; что, хотя я нисколько не осуждаю увещание собрания и настойчивость его друзей, все же, как мне кажется, по слабому моему и порочному разумению, решение могло бы быть и менее суровым, оставаясь совместимым с разумом; что я не мог бы проплыть и лиги, между тем как до ближайшего материка или острова, вероятно, больше ста лиг; что многих материалов, необходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране; но что я все же сделаю попытку в знак повиновения и благодарности его милости, хотя считаю предприятие безнадежным и, следовательно, смотрю на себя как на человека, обреченного гибели; что перспектива верной смерти является наименьшим из зол, которым я подвергаюсь, ибо — если даже допустить, что каким-либо чудом мне удастся спасти свою жизнь — каким образом могу я примириться с мыслью проводить дни свои среди еху и снова впасть в свои старые пороки, не имея перед глазами примеров, наставляющих меня и удерживающих на путях добродетели. Однако я прекрасно знаю, что все решения мудрых гуигнгнмов покоятся на очень прочных основаниях, и не мне, жалкому еху, поколебать их своими доводами; поэтому, выразив хозяину мою нижайшую благодарность за предложение дать мне в помощь своих слуг при сооружении судна и испросив достаточное время для такой трудной работы, я сказал ему, что постараюсь сохранить постылую жизнь, и если возвращусь в Англию, то питаю надежду принести пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных гуигнгнмов и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческого рода.
Его милость в немногих словах очень любезно ответил мне и предоставил два месяца на постройку лодки; он приказал гнедому лошаку, моему товарищу-слуге (ибо на столь далеком расстоянии я вправе называть его так), исполнять мои распоряжения, так как я сказал хозяину, что помощи одного работника мне будет достаточно и я знаю, что гнедой очень расположен ко мне.
Я начал с того, что отправился с ним на берег, где мой взбунтовавшийся экипаж приказал мне высадиться. Я взошел на холм и, осмотрев кругом море, как будто заметил на северо-востоке небольшой остров; я вынул тогда подзорную трубу и мог ясно различить его; по моим предположениям, он находился на расстоянии около пяти лиг. Однако для гнедого остров был просто синеватым облаком: не имея никакого понятия о существовании других стран, он не мог различать отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, так много общающиеся с этой стихией.
Открыв остров, я не делал дальнейших изысканий и решил, что он будет, если возможно, первым пристанищем в моем изгнании, предоставляя дальнейшее судьбе.
Я вернулся домой и, посоветовавшись с гнедым лошаком, отправился с ним в близлежащую рощу, где я своим ножом, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным по тамошнему способу к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной с обыкновенную палку и несколько более крупных. Но я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ; достаточно будет сказать, что в течение шести недель с помощью гнедого лошака, выполнившего более тяжелую часть работы, я соорудил нечто вроде индейской пироги, только гораздо более крупных размеров, и покрыл ее шкурами еху, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Парус точно так же я сделал из шкур упомянутых животных, выбрав для этого те, что принадлежали самым молодым из них, так как шкуры старых еху были слишком грубыми и толстыми; я заготовил также четыре весла, сделал запас вареного мяса кроликов и домашней птицы и взял с собой два сосуда — один наполненный молоком, а другой — пресной водой.
Я испытал свою пирогу в большом пруду подле дома моего хозяина и исправил все обнаружившиеся в ней изъяны, замазав щели жиром еху и приведя ее в такое состояние, чтобы она могла вынести меня и мой груз. Сделав все, что было в моих силах, я погрузил лодку на телегу, и она очень осторожно была отвезена еху на морской берег, под наблюдением гнедого лошака и еще одного слуги.