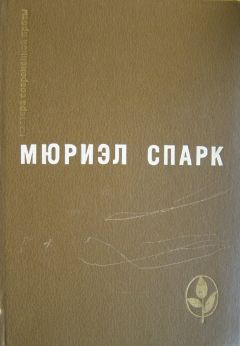— Ну и сдавай его напрокат с почасовой оплатой.
— Жаль, что я не поеду в Нортумберленд, — сказала Дотти. — Сэр Квентин всех обзвонил в срочном порядке. Все едут. Мне звонила Мэйзи. Она едет. Отец Дилени…
— Давно я не слышала такой приятной новости, — сказала я. — А как с Эдвиной?
— Нет, ее не берут. Она останется в Лондоне с сиделкой. Заодно могу тебе сообщить, если ты еще не в курсе, что ей нечего завещать после своей смерти.
Не знаю, что подтолкнуло меня сказать это, но в ту минуту я подумала о своем персонаже, старухе Пруденс, которая унаследовала состояние Уоррендера:
— Она может пережить сына и унаследовать все его имущество.
— Ох, уж этот твой «Уоррендер Ловит», — заметила Дотти, заваривая чай.
— Ты принимаешь «Декседрин»? — сказала я.
— Нет, перестала. Врач запретил. Вообще-то я поэтому и не могу поехать в Нортумберленд. Сэр Квентин меня не возьмет.
— А Берил Тимс едет с ними?
— Конечно. На церемониях она выступает в роли первосвященника. Они отбывают в эту самую минуту. Не знаю, что и делать.
— Забыть их, — сказала я.
— Это ты легко забываешь.
— Нет, не легко. Когда-нибудь я напишу обо всем этом.
Мне вспомнился Челлини:
«Все люди всяческого рода… должны бы… своею собственною рукою описать свою жизнь…»
— Ты уже написала, — сказала Дотти, брякнув чашкой о блюдце. — Ты же знаешь, что твой «Уоррендер Ловит» — целиком про нас. Ты все это предвидела.
Когда она собрала вязанье и ушла, я открыла восхитительное «Оправдание» Ньюмена на нужной странице:
«…и понял, как обязан поступить, хотя меня равно пугало и само деяние, и вытекающее из него разоблачение. Я должен, сказал я, представить в истинном свете всю мою жизнь: я должен показать, каков я есть, чтобы можно было увидеть, кем я являюсь, и убить призрак, что бормочет моими устами. Хочу, чтобы меня знали как человека из плоти и крови, а не как пугало, обряженное в мои одежды…»
И положила книгу на стол рядом с моим Бенвенуто Челлини:
«Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своею собственною рукою описать свою жизнь…»
Заглядывая то в одну из них, то в другую, я восхищалась обеими. И думала, что в свое время, когда месяцы, разделяющие осень 1949 года и лето 1950-го, отойдут в далекое прошлое, а за плечами у меня будет нечто «похожее на доблесть», я предам все это печати. Известия, принесенные Дотти, привели меня в состояние пронзительной радости. Мне требовалась работа, а моему роману — издатель. Но с отбытием «Общества автобиографов» я почувствовала, что наконец-то от него избавилась. Хотя на самом деле я еще не отделалась от сэра Квентина и его мелкотравчатой секты, но в нравственном смысле они уже находились вне меня, принадлежали объективной действительности. Когда-нибудь я о них напишу. Если же вдуматься, то в том или ином виде, нравилось это мне или нет, я с той поры и писала о них — тростнике, пошедшем на сырье для моих творческих заготовок.
Дата, которую я отмечаю как поворотный пункт в моей жизни, пришлась точно на середину двадцатого века — теплая, напоенная солнцем пятница, последний день июня 1950 года. Да, тот самый далекий день, когда я, прихватив бутерброды, пришла на старое закрытое кладбище в Кенсингтоне позавтракать и поработать над стихотворением, а молодой полисмен лениво подошел поглядеть, чем это я там занимаюсь. У него были четкие черты лица — как на памятниках жертвам войны. Я спросила: допустим, я нарушаю закон тем, что так вот сижу на надгробии, — в каком нарушении меня можно было бы обвинить?
— Пожалуй, в осквернении могилы и оскорблении усопших, — ответил он, — или в нарушении правил движения по дорожкам и создании неоправданных помех; можно было бы и в умышленной задержке в неположенном месте.
Я предложила ему бутерброд, но он отказался. Он только что пообедал.
— Могилы, верно, очень старые, — сказал полисмен. Он пожелал мне удачи и пошел восвояси. Я забыла, что за стихотворение писала в тот день; скорее всего, это был опыт в одной из строгих форм — рондо, триолета или вилланели; примерно в это время я работала еще и с повествовательным александрийским стихом, так что его тоже нельзя исключать; я всегда находила упражнения в различных размерах и формах ради них самих делом весьма увлекательным, а часто — и неожиданно — стимулирующим. Я тянула время, чтобы избавить себя от надоедливых приставаний домовладельца, мистера Алекзандера, по поводу своей захламленной комнаты.
Снимать большую комнату мне было не по средствам, я едва-едва могла позволить себе платить за маленькую. Я подыскала не ахти какую, но все же работу — давала отзывы на рукописи и читала гранки для издателя из Уоппинга, время от времени рецензировала сборники стихов и рассказов. И успешно продвигалась со своим вторым романом, «Днем поминовения», уже задумав третий — «Английскую Розу». Попытки Солли пристроить «Уоррендера Ловита» по-прежнему ни к чему не вели, и, говоря по правде, я потеряла надежду на его опубликование; теперь все мои упования были связаны с «Днем поминовения». Но от моих сбережений почти ничего не осталось, я понимала, что скоро придется нести свои книги к букинистам. Я отчаянно искала место с полной рабочей неделей.
Однако в тот день середины двадцатого века я особенно остро почувствовала, до чего прекрасно быть женщиной и писательницей в это время и в этом месте. Последние шесть недель я большей частью пребывала в угнетенном состоянии духа, но теперь это вдруг прошло, как бывает с депрессиями.
Суббота и воскресенье с Уолли у него в Марлоу по случаю отмены карточек на бензин двадцать седьмого мая оказались если и не полной катастрофой, то уж, безусловно, делом малоприятным.
Началось все прекрасно — перед самой поездкой я повела Уолли на Халлам-стрит позавтракать в обществе Эдвины. Сэр Квентин уже сбежал в Нортумберленд, оставив Эдвину с мисс Фишер и новой приходящей прислугой. Эдвина разоделась в нежно-голубое с отделкой из лебяжьего пуха, который изрядно полез за время нашего завтрака; тени у нее на веках повторяли ту же комбинацию цветов. Она, вероятно, готовила себя к завтраку не один час. Пальцы у нее были сплошь в кольцах, на ногтях — ослепительной яркости лак.
— Вы возлюбленный Флёр? — проорала она Уолли.
— Да.
— Она для вас слишком хороша.
— Понимаю, — ответил Уолли со свойственным ему добродушием.
Мы сидели за маленьким резным столиком в эркере ее миниатюрной гостиной. Она была радостно оживлена, чувствуя себя в квартире полной хозяйкой, и обворожила Уолли историями про покойного Артура Бальфура [61]. Когда я ее спросила, не собирается ли Берил Тимс остаться в Нортумберленде, она сказала: — Какая такая Берил?
Наша следующая встреча с Эдвиной произошла на неделе — я вкатила ее, одетую во все черное и с нитками жемчуга вокруг шеи, в церковь, где состоялась заупокойная служба по ее сыну Квентину.
На пути в Марлоу Уолли заявил, что просто очарован Эдвиной. — Я в твою Эдвину влюбился, — сказал он.
В Марлоу Уолли ждала неприятная неожиданность: женщина, что приходила убираться в доме, не появлялась там с последнего раза. Я заметила доказательства, что в тот раз он тоже приезжал не один, и это, думаю, расстроило его больше всего. На самом-то деле мне было все равно — сама по себе ситуация оказалась забавной, а любой непредвиденный поворот событий приводит меня в восторг. Но я не могла заставить себя не думать, кто была эта другая, и, примечая на полу зеленоватые, обгрызенные мышами корочки гренков, которые они тогда приготовили на завтрак, зеленое, с черным ободком по краю молоко в молочнике, а в раковине — пару кофейных блюдец и чашечек с запекшейся на донышке гущей, сухой и старой, я про себя высчитывала, когда это было: сколько недель тому назад и как мы с Уолли встречались по будням с того времени. Пока Уолли стоял и ругался, я с непозволительным легкомыслием понесла свою дорожную сумку в спальню. Для одной пары простыни на постели выглядели слишком уж скомканными, и, словно по указанию опытного режиссера, верхняя часть синей хлопчатобумажной пижамы Уолли свисала со столбика кровати, тогда как штаны, аккуратно сложенные, лежали себе на крышке комода. Бутылка с остатками виски и два стакана, один со следами губной помады, с постановочной точки зрения воспринимались как перегиб, но от них некуда было деться. Мы убрались в доме и вышли перекусить.
Ближе к вечеру я без всякой видимой причины вдруг разнервничалась по поводу почти забытого «Уоррендера Ловита». Мне подумалось, а не могла бы я написать начальную сцену поудачнее. Я столько раз перепечатывала и перечитывала роман, что знала его едва ли не наизусть.