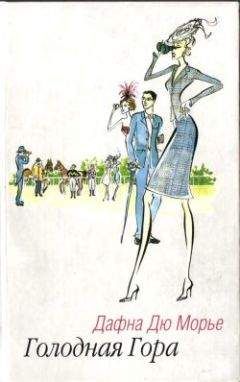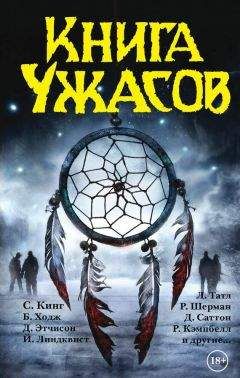– Мне ваши деньги не нужны, – сказал страж. – Мы бы их у вас забрали, если бы было нужно. За кого вы нас принимаете, за грабителей?
– Но вы же украли мою машину разве не так?
– Мы ее позаимствовали для нашего дела. Когда наша страна станет свободной, мы вам ее вернем.
– Все это вздор, и вам это прекрасно известно. Почему меня здесь держат?
– Говорю вам, я не знаю, истинно, как перед Богом. Вы умеете играть в вист вдвоем?
– Как-то раз играл. Только это было давно.
– У меня в кармане есть карты. Мы могли бы сыграть, если вы захотите, это поможет скоротать время. Там, под дверями мне совсем нечего делать, только что погоду пинать. А вдвоем все-таки было бы веселее.
– Ладно, – согласился Джон-Генри. – Тащите сюда свои карты.
Они сидели вместе в крошечной хижине, скудно освещенной светом, который едва пробивался сквозь заткнутое тряпками окошко, играли в вист и прихлебывали виски из фляги сторожа. Вот уж действительно, думал Джон-Генри, знамение нашего безумного времени – я сижу вместе со своим тюремщиком, мы дружно пьем запрещенное виски, он выигрывает у меня деньги, которые постеснялся просто отобрать, и мы обсуждаем, как лучше всего ставить силки на зайцев. А завтра он меня застрелит, и вполне возможно, как говорил вчера часовой в Слейне, будет проливать слезы жалости и принесет на мои похороны цветы.
Прошло два дня, в течение которых этот парень Тим время от времени отлучался; возвращаясь, он приносил хлеб, иногда бекон или куриную ногу и свежий запас виски, чтобы было не так скучно. Каждый раз после такой отлучки Джон-Генри его спрашивал: «Ну как, Тим, когда же вы меня расстреляете?» и каждый раз Тим отрицательно качал головой и отвечал: «Я ведь вам уже говорил, никто вас убивать не собирается».
– Тогда зачем меня держат в этой проклятой лачуге?
– Вы просто отдыхаете с пользой для тела и души, – отвечал Тим, и на свет снова появлялась засаленная колода карт и виски. Интересно, сколько этот Тим уже выиграл? Фунтов пятнадцать? А может быть, семнадцать? Джон-Генри не помнил, впрочем, это справедливая плата за виски, к тому же, если благодаря спиртному у него будет тепло на душе и в желудке, он не будет испытывать страха, когда они поведут его в горы, чтобы там расстрелять.
На третью ночь у Тима во фляжке оказалось больше виски, чем обычно, оплывающая свечка чадила, едва освещая хижину, карты слипались и липли к рукам, и куски торфа, тлеющие в очаге, наполняли комнатушку дымом, так что Джон-Генри вскоре начал зевать, потягиваться и наконец бросился на солому и крепко заснул, положив под голову руки вместо подушки. Его разбудил розовый луч рассветного солнца, упавший ему на лицо через открытую дверь хижины. Он обнаружил, что Тима, его тюремщика, нет на месте, а белый утренний туман, окутывавший вершины холмов, уже рассеялся. Джон-Генри поднялся на ноги, протер глаза и, подойдя к дверям, выглянул наружу, приветствуя наступающий день. Выглядел он не слишком импозантно: в волосах запуталась солома, подбородок покрывала трехдневная щетина; он подставил лицо теплым лучам солнца, наблюдая за кроншнепом, который пролетел над холмом и скрылся из вида. Потом взгляд его скользнул вниз, на землю, и прямо у своих ног он увидел газету, придавленную камнем. Газета была вчерашняя, на первой странице он заметил крестик, под которым было нацарапано: «Смотри третью страницу». И там, в самой середине страницы, он увидел фотографию Клонмиэра. Жирные черные буквы под фотографией гласили: «Старинный замок разрушен до основания».
Джон-Генри опустился на колени и расправил газету прямо на земле, так как руки у него дрожали. Углы он прижал камешками, чтобы утренний ветер не трепал газету. Под фотографией была помещена заметка в несколько строк, набранная мелким шрифтом: «Прошлой ночью неизвестными лицами был сожжен и разрушен замок Клонмиэр в Дунхейвене, на заливе Мэнди-Бей. Жителям деревни, которые были разбужены пожаром, удалось спасти кое-что из мебели и вещей, находившихся в замке, однако от самого здания к утру остались одни стены. Судя по слухам, владелец замка, мистер Джон-Генри Бродрик, в настоящее время находится в здешних краях».
Джон-Генри стоял на коленях, не отрывая глаз от газеты, и охватившая его поначалу слепая ярость постепенно утихла, уступив место изумлению, притупившему мысли и чувства. С земли поднялся жаворонок, приветствуя наступающий день. Вдали мерцала бледная гладь моря. И, глядя на газетную страницу, с которой на него смотрели развалины его дома – крушение его мечты, он снова увидел глаза человека из отеля в Слейне, а также физиономию голубоглазого веснушчатого Тима, который усмехался и что-то бормотал, поглядывая на него поверх карт и угощая его виски, ценою которому, как оказалось, была вся будущая жизнь Джона-Генри. «Мы, и только мы».
Гнев его утих, печаль тоже. Ему казалось, он видит то, что вечным символом будет жить в его сердце, символом, который неподвластен огню и разрушению, ибо он больше, чем просто камни. Прошлое никогда его от себя не отпустит, к нему постоянно будут тянуться невидимые призрачные руки предков, которых он не знал, но которые составляют неотъемлемую часть его существа. То, что он стоит здесь, посреди развалин, это не прощание. Это, в известном смысле, посвящение будущему. Когда-нибудь он в полной мере осознает то, что потерял, и вернется снова, ибо здесь его дом, его место. Он молод, и поэтому ярость и скорбь, которые он так остро чувствовал поначалу, скоро утихнут, уже и сейчас он испытывает лихорадочное возбуждение школьника, разгребая ногами дымящиеся головешки в поисках уцелевших сокровищ, словно настоящий кладоискатель.
Окружающие его люди вели себя с большим тактом. Они держались в стороне, не подходили к пожарищу, чтобы поглазеть на закопченные стены. Его наследство принадлежало ему безраздельно. Он знал, что они уже забрали себе то, что им было нужно, ибо возле одного из коттеджей в Оукмаунте он заметил знакомый кухонный шкаф, а рядом с Лоджем маленькая девочка играла фарфоровой вазочкой, которая раньше стояла на камине в гостиной. В коттеджах Дунхейвена можно было, конечно, найти и другие веши, надежно припрятанные, ведь пожар, как и потерпевшее крушение судно, это всеобщее достояние, по крайней мере до тех пор, пока не вступит в свои права закон или власть. А Джон-Генри не был ни тем ни другим. Он был просто человек, вынужденный мириться со всеми превратностями судьбы в стране, охваченной гражданской войной, и молча терпеть то, что приходится расстаться со своей собственностью – домом, землей или состоянием. На пожарище не осталось ничего, что можно было бы унести с собой, только на откосе лежал портрет, с которого на него смотрело улыбающееся лицо его двоюродной прабабки Джейн, и он обрадовался, потому что этот портрет ему всегда нравился, и мать с удовольствием повесит его у себя в доме. Удивительно, что издали дом казался целым.
По-прежнему вверх поднимались трубы, целы были окна, и, только подойдя ближе, можно было понять, что внутри ничего нет, и что потолком этому дому служит само небо. Но фундамент все-таки сохранился целиком. Бродя среди развалин, можно было узнать каждую комнату, хотя самих комнат уже не было. Больше всего пострадала старая часть дома. Новое крыло, хотя там никогда никто не жил, выглядело так же, как пятьдесят лет тому назад, когда оно строилось и когда его отец мальчиком лазал там по строительным лесам. Железный балкон над парадной дверью покосился, но уцелел; он цеплялся за черную стену, словно боясь упасть, позади него зияли голые окна, а стены будуара безнадежно обрушились. Эти два предмета – балкон и портрет бабушки Джейн он, сам не зная почему, ценил больше всего. И по странному капризу судьбы огонь пощадил именно их.
Окончив осмотр пожарища, Джон-Генри стоял на берегу залива у подножья замка и вдруг увидел стадо коров, которые щипали траву на обочинах подъездной аллеи, медленно продвигаясь по направлению к замку. При стаде находился пастух, молодой неповоротливый парень в шапке набекрень, который неторопливо шагал по аллее, жуя травинку. Коровам, видимо, нравилось новое пастбище, они обследовали соседние кусты, тыкаясь в них носами, а вожак, завидев воду залива, повел стадо к берегу, к садику из одичавших растений, некогда бывшему предметом гордости тетушек Джейн и Барбары, а оттуда и к самой воде, которую они принялись пить, поднимая время от времени морды, чтобы посмотреть на тот берег. Пастух наблюдал за ними, раздвигая своим посохом густую траву, но стараясь не смотреть на замок, словно из деликатности.
Джон-Генри спустился по откосу к стаду, и пастух, вынув травинку изо рта, поздоровался с ним, прикоснувшись пальцами к полям своей шапки.
Джон-Генри сразу же увидел, что лицо этого парня – он был, вероятно, одних с ним лет – ему знакомо, он, несомненно, видел его совсем недавно, не дальше чем на этой неделе, и его внезапно озарило, он понял, что этот пастух – точная копия человека, которого он видел в баре отеля в Слейне. Он коротко сказал «Добрый день», и оба они некоторое время стояли молча, глядя на пасущихся коров.