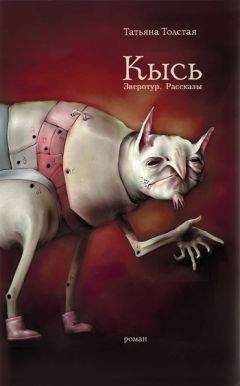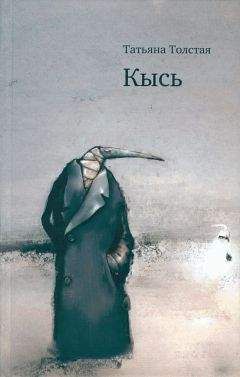Под ногами – зеленая, колкая страна, сизые черничные подлески, недозрелые земляничные горошины, бело-розовые поля куколя, а за светлым лесом – тихая гладь горящего под солнцем озера.
И Наташа носила в своей душе золотой прозрачный бокал шампанского счастья.
К осени Наташа затосковала, билось сердце, слышались голоса, виделись сны. С гряды поздних цыганских маков, сотканных из нежного снотворного вещества, ветер веял морфеями, опочивальнями, сквозными анфиладами, прохладными покоями, голубоватыми кружевными мостиками над туманными рвами, перепутанными дорожками, уводящими в ночную страну – мягкую, коричневую, податливую, ускользающую; в сонный лесок с чистыми желтыми дорожками, грамотными медведями, ходящими на задних лапах, приветливыми старушками, что охотно живут в одиночестве в чаще, машут пухлыми ручками из пряничных окошек, – а ты идешь все дальше и дальше, а ты уже миновала врытый в землю круглый стол, и серый старый гамак, натянутый между смолистых елей, и брошенную детскую лейку; а ты видишь себя самоё, сидящую на корточках, с желтым шелковым бантом в волосах, а на скамейке, узорчатой от короеда, сидят и ждут мертвые родители. Вот ты и вспомнила их лица. Мама в белых теннисных тапочках, в белом беретике; папа украшен усами; черным зонтом чертит он на песке какое-то слово. Странное слово, никак его не прочесть. Вот-вот поймешь... но нет. Они смотрят Наташе в лицо, молчат, улыбаются: что же ты?.. Ну?.. Не поняла?.. Постойте, подождите, кажется, сейчас... вот-вот-вот... но густые суконные занавеси сна дрогнули, лица смазались, лес засквозил редкой марлей, и, выдернутая из воды рыба, задыхаясь и тяжелея, Наташа снова тут, – бьется, просыпаясь, в однозначных тисках своего сегодня. Глухая вода сомкнулась, крышка захлопнулась, лишь поспешно тает на белом потолке непрочитанная абракадабра – тщетное послание мертвого отца.
Бабушка водила Наташу к врачу, Наташа ела белые таблетки и ничего уже больше не видела во сне, кроме вздымающихся черных воздушных волн.
После института Наташа учила школьников географии. От слова «география» в ее голове распахивались просторы: ястреб парит над маковой степью, глухо шумит ночное море, высоко над головой качаются ядовитые лилейные цветы, а в самом низу круглой тяжелой земли, там, где синяя авоська меридианов стянута в тугой узелок, заиндевевший лыжник вслед за плачущими собачками медленно, вверх ногами бредет по нежным ледяным полянам Земли Королевы Мод. Но говорить об этом она не умела, да никто и не просил, да и не было на свете такой науки, что изучала бы запах ночного сада, вой морской пены, темный блеск океанских жемчужин и глухой стук одинокого сердца. Что, если бы дети догадались – какой стыд, – что «месторождение бокситов» представляется Наташе – унылой, носатой училке – лесной пещеркой, откуда вываливаются одна за другой толстенькие, рыжеватые, гладкие собачки в круглых спортивных бойцовских перчатках, а «чугун» – черноволосым китайским князьком в переливчатом халате. И, боясь разоблачения, Наташа говорила скучно и путано, смотрела умоляюще, побаивалась неловких, красноруких восьмиклассников, сама подсказывала ответы и с облегчением рисовала красивые синие пятерки.
Время шло, сердце билось, и никто не приходил любить Наташу. А ведь были предчувствия, были приметы и видения, двусмысленные знаки, что время от времени подает судьба, и разве не обещал ей что-то грозное, огромное, страшное до замирания сердца Желтый Месяц, выходивший с ножом из синих клубов тумана? Но теперь Желтый Месяц молчал и лишь играл черными резными тенями на бабушкиной могиле.
Через Наташино жилье пролег длинный коммунальный коридор, в полутьме над головой проплывают бубны тазов, пыльные эоловы арфы велосипедов, а над выходом, как на потревоженном, вставшем на дыбы чумном кладбище, сбились в кучу черные черепа электрических счетчиков, и бешено вертятся к ночи сплошные белые полосы зубов с одиноким кровавым зубиком, все убегающим вправо. Вечерами за чужими дверьми свистят, пыхают синим светом футболы, громко спорят чужие мужья; бабки, сидя на высоких постелях, почесывают ноги. Веселый слесарь на кухне тянет руки к молоденькой розовой соседке; соседка замахивается локтем, в восторге веселый слесарь: «Хар-рошая спортивная злость!»
Вечерами играли в покер с желтой, прокуренной Конкордией Бенедиктовной, дававшей Наташе советы, как одеваться; сама Конкордия Бенедиктовна на груди носила темную вспыхивавшую брошь, из коробочек доставала крупные граненые бусы, переворачивала чашки и стучала ногтем по фарфоровому донцу с бледно-голубыми породистыми клеймами, – старина, глубокая старина! Наташа глядела в маленькие потертые карты и хотела быть похожей на даму бубен – мягкую, синеокую, в белом сборчатом платке и собольей душегрейке. Заглядывал в комнату седым журавлем в красном кашне старый вдовец Гагин, ежегодно рисовавший для витрин овощных магазинов озверевшего Деда Мороза с буйнопомешанной Снегурочкой, ражих, краснолицых, решившихся на все, бешено несущихся сквозь кудрявую пургу на царских розвальнях с серебряными блестками.
Утром – унизительный визит в уборную с сочащимися фисташковыми стенами, с аккуратно нарванными прямоугольничками «Социалистической индустрии» или «Недели», с покачивающейся на собачьей цепочке старинной фарфоровой грушей, на которой англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, начертал черное слово «Pull», и даже нарисовал крошечную указующую ручонку в черной манжете: в какую сторону тянуть-то. Но веселый слесарь нарочно, для смеха, каждый раз не слушался указаний англичанина, и пока Наташа негодовала в осклизлой камере-одиночке, больная старуха Моршанская, растрепанная, в ночной рубашке, уже колотила в дверцу, крича усатым голосом:
– К старикам совесть-то имейте!.. Наталья, ты, что ли?.. Кишка выпадет!..
Окно ванной выходило на черный ход, и старуха Моршанская, боясь нападения пионеров, собиравших макулатуру, забаррикадировала его корытом – тем самым, дырявым, – последним обноском с плеча Золотой Рыбки. В ванной только стирали, а мыться ходили в баню, ходила и Наташа, разглядывала странных раздетых женщин, розовых, как мокрая ветчина, и у всех находила недостатки. И раз, в пару, по скользкому наклонному полу, с мокрым узлом на лбу, держа под мышкой шайку как классный журнал, прошла голая тучная завуч старших классов, только что, утром, строго говорившая: «мы, педагоги, всецело сознаем». И долго после, глядя как завуч, багровая, звеня медалью, кричит на подростков, хихикающих во время торжественной линейки, Наташа видела лишь то страшное, красное, вспученное, что прошлепало, торопясь, по мокрой метлахской плитке.
На летних бульварах старухи, знавшие лучшую жизнь – позолоченные чашки, морозную флору кружевных подолов, мелкую муравьиную грань заморских цилиндриков с ароматами, а может быть – и даже наверное – тайных возлюбленных, – сидели нога на ногу, подняв взоры вверх, где вечерний небесный театр безмолвно расточал горящие алые, золотые сокровища, и ласковый западный свет венчал чайными розами голубые волосы бывших женщин.
А рядом, тяжело расставив опухшие ноги, опустив руки, опустив головы в крапчатых платках, погасив все огни, мертвыми лебедями сидели те, что прожили годы в коричневых общих кухнях, в тусклых коридорах, на железных кроватях, у глубоко прорубленных окон, где за синей рябоватой кастрюлькой, за тяжелым духом квашения, за заплаканным стеклом темнеет и набухает осенней тоской чужая стена.
И Наташа стала мечтать: если уж старость придет и ко мне, пусть я превращусь в чистенькую розовую седую старушечку, любимую школьную учительницу, добрую и смешливую, как булочка с изюмом. Но булочки из нее не получалось, и должна была она стать старухой землистой, с хоботом, и кривоватой.
Только однажды, случайно, попала она в Москву, носилась на такси по ночным, визжащим от мороза улицам, замирая, пугаясь, озираясь на гигантские дома – черные, вставшие на дыбы комоды, угрюмые замки сгинувших титанов, исполинские соты, коронованные кровавыми сторожевыми углями. А утром выглянула из гостиничного окна на притихшую оттепель, на мягкий серенький денек, на путаницу двухэтажных желтых домишек и флигельков, просверленных утренними огоньками – ласковой рукой отведена кисея с маленького оконца, запевает чайник, бабушка в валенках потчует внука белыми сайками – сладкая, мягкая, русская Москва!
И сразу захотелось жить тут, выдыхать морозный пар в маленьких переулочках, расчищать дорожки в сугробах, носить просторные кофты навыпуск, пить чай с баранками, купленными в маленькой, румяной, золотой лавочке!
И в упоении от крепкого утреннего воздуха, от небрежной московской потрепанности, от тлеющих фонариков герани в низких окошечках – проснулась Наташа, раскинула руки, засмеялась и влюбилась – быстро, свободно познакомившись – в русого, бородатого, замечательного Петра Петровича из города Изюм, приехавшего в Москву за покупками. Смеялась, счастливая, налегая грудью на стол в пельменной, глядела сияющими глазами, как бодро забрасывает Петр Петрович горячие белые блямбы через бороду в здоровый рот, собакой бегала за веселым изюмцем по магазинам, махала рукой из длинных очередей, помогала тащить голубые обувные коробки, протискивалась к крутым елисеевским прилавкам, в тесноте нечаянно прижималась щекой к широкой, пахнущей овчинкой спине любимого полушубка.