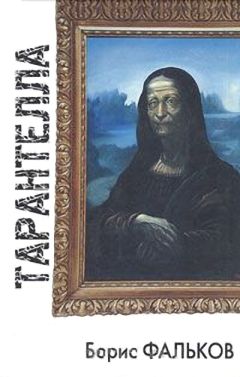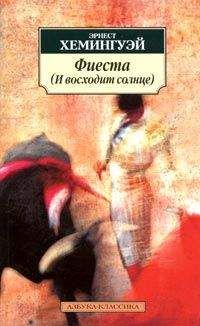— Какая разница, — улыбается в ответ на угрозу из всех углов комнаты молчание. — Ничего не кончено, не кончается между нами, детёныш. Отталкивая призываешь, мне всегда есть куда вернуться. Дом моего молчания повсюду, и молчание говорит не переставая молчать.
— Кризис, похоже, миновал, — замечает приезжий. — Девочка явно узнала меня, если вспомнила о доме, о делах.
— Очень милая у вас девочка, — соглашается цирюльник, — надо только присмотреться к ней получше.
— Значит, опасности летального исхода больше нет, — заключает padre. — И слава Богу, нам всем вполне хватает уже имеющихся хлопот.
— Да, хватит погребальных хлопот, — уносясь доносится из восточного угла неба, и из всех других его углов. — Эта весна не последняя, и не последний май. Источники жизни вскрываются, истекая в устья истоков. Ухожу возвращаясь, и разлука со мной вскрывает источники слёз, чтобы они вливались в мои уста вином встреч.
Кто же предоставляет ему это его излюбленное питьё? Кто даёт ему животворящую пищу, разорванное его зубами, разлукой с ним, сердце? Всякий, кто рыдает: папочка, пожалуйста хватит, не надо больше, отпусти меня. И сразу вслед за тем: о, пожалуйста, не уходи, зачем ты оставляешь меня. Боль встречи с ним, потрясение от столкновения с ним выбивает из глаз слёзы, но продолжают они течь от непомерной тоски разлучения с ним. Они истекают не бурно, и не тихо, как раз так, чтобы течь ровным нескончаемым потоком: ведь источники слёз неисчерпаемы, а разлучение никогда не кончается, бесконечно длится. Терпеливые занятия разлукой создают привычку к слезам, теперь их проще выносить внутри и вынести наружу, легче перенести. Они совсем лёгкие, их легко ронять.
Слёзы чистейшие разлуки преображают всё, что не поддаётся усилиям других растворов. Саму смерть оживляют они, превращая её в светлейшую надежду. Пропитанная этим едким раствором, тончает и превозмогается, просветляется всякий материал, всякая плоть. Самая грубая и упорная из них, пропыленные прахом земным кепки кордебалета, и та уже преображается в золочёные радуги… Что ж, тем тягостней прощание с ними. Привыкнув ко всем, особенно трудно расставаться. Но что поделаешь, расставание уже идёт, уже проходит перед глазами. И никого не удержать тут, уходящих можно только проводить, и то только прощальным взглядом. Само расставание с ними уходит туда же, и оно в конце концов пройдёт. В конце концов и к нему так же можно привыкнуть, как и к словам прощания, и к самой привычке к ним, если оно повторяется снова и снова. Если не складывается привычка, начто же существует повтор?
Да, прощание уже идёт, и кто-то должен уходить первым. Скорей всего, это сам хозяин дома, устроитель и единственный зритель проходящего в нём действа. Осуществив его, он уходит, собираясь вернуться будущей весной, в мае, чтобы осуществиться с ещё большей полнотой. Не хочется верить ему на слово, но приходится: он уходит в пока ещё спящее будущее, в спальню своего теперешнего дома, на самый дальний, будущий рассветный восток этого дома, в дальнейшую его даль и высочайшую высоту, и последовать туда за ним слишком трудно. Он-то к таким далёким путешествиям привык, а другие, а мы… Постоянное занятие таким движением неизбежно создаёт привычку к этому делу, от него теперь трудно отказаться, без него уже не жить. Да и дело это вполне обычное, обживание сцены, коробочки с её восемью углами, ничего особенного, так делают все. Всех дел-то: опуститься на юг с небес в пересечение диагоналей коробочки и уйти назад. Выступить из диагонали тёмной платановой аллеи сюда, двусмысленно пройтись перед всеми туда-сюда и распрощаться. Ничего нет проще, всё это можно проделать и мысленно: качание перед нами туда-сюда — обычная двусмысленность житья-бытья, утешительное качание из-за края этого через край того. Ведь эти два края — один край, ибо они соприкасаются очень плотно. Края сложной жизни и простого бытия, уперевшись друг в друга, просто-напросто твердеют в середине коробочки, образуя там твердь срединную из затверженных земных дел, как же иначе?
Движение устроителя действа с небес к будничным делам неотличимо от всякого движения. Как и все, оно изымает движущееся из покойной позы, оживляет её. Оно изъян завершенной позы, совершенно изымающий саму позу. Это движение единственный, но исчерпывающий изъян устроителя действия. Зарастив его, покончив с этим дневным делом, он уходит назад в свою тьму, чтобы устроиться там в своей прежней, совершенной, и потому единственной позе. Эта тёмная поза — дрожь неподвижной позы, сама дрожащая тьма. Ею он изымает себя из дневного света, лишается его и лишает нас себя, но этим лишением он даёт себя нам таким, каков он есть. Мы обречены на лишения, на прощание и разлуку, но эта печальная обречённость утешительна. Только так и можно вынести это невыносимое зрелище, тёмный лик устроителя всех действий, когда мы лишены его, когда его нет. Когда печально утешение.
Мы не можем последовать за ним во тьму его будущего, и слава Богу. Но это значит — мы лишены будущего, и надеяться нам не на что, ибо его у нас нет? Не совсем так, его будущего у нас действительно нет, но у нас есть своё. Его не много, но ведь именно так оно может найти соответствующее себе, маленькое место поближе к нам, совсем у нас под рукой. Ближайшая к нам область будущего — да вот она, прямо сейчас, и она у нас всегда под рукой. Правда, и она всегда убегает отсюда, забегает вперёд нас, в неё никогда нельзя вступить. Наше будущее недоступно нам, пока оно остаётся собой — его для нас тоже нет. Но оно становится доступным, когда перестаёт быть собой, теряет себя для другого, вот этого, теперь. Когда его самого нет вот тут, оно есть. И все мы его очень скоро увидим и услышим, сейчас, вот-вот оно само ответит нам на все вопросы о себе. Или, по нашей бедности, послушаем соответственно маленький о нём рассказ.
А устроитель действа уходит на будущий рассветный восток, на исходную позицию, откуда опустился сюда, и о том месте мало что расскажешь. Кто похвастается, что побывал там и вернулся? Никто. Но своим движением он сам рассказывает о себе, ещё издалека, прежде, чем кто-то тут заговорит о нём, думая, что говорит o ком-то близком. Он высылает вперёд себя вестников о себе: разговоры и слухи не о себе. Вращаясь тут об всяком, они умалчивают о нём, и пустоты умолчаний хранят места, приготовленные для его гнездования. Он приходит позже, после всех слов, уготовив себе в них место, наполняет их значением, собой — а уходит прежде них. Сначала он уходит из слов, как всякий смысл, а слова уж уходят вслед за ним. Прежде слов из них уходит их значение, и утратив смысл — слова становятся совсем незначительными, им ничего не остаётся, как тоже уйти вслед за ним. Вот, они ещё тут — а он уже там, вернулся в своё молчание. Его можно только проводить глазами, удержать его тут значило бы прикончить его, как удержать сыпящийся туда-сюда песок в песочных часах означало бы прикончить их смысл, само время. Очень утешительно, что это слишком трудно проделать. Качаясь туда-сюда, с высоты на восток, он вытекает из своей запертой спальни для того, чтобы вернуться в неё, выступает из тьмы своего молчания — и возвращается в молчание тьмы. Но даже если и невозможно последовать за ним — с ним не всё потеряно, есть надежда, что он вернётся сам. А прощание с его соучастниками, участниками его действа, навсегда. Они уходят в ничто, в прах словесный, из которого созданы, из которого вышли. Им не вo что возвращаться, кроме праха, и они снова рассыпятся в прах.
С их уходом утрачивается многое, но не всё, самое подверженное утратам надежда — остаётся. Пока она не изъята из употребления, упования на неё не безнадёжны, пока ещё звучат слова повествования об уходящих, она не отринута. Ей пока есть куда вернуться, в дом упований, и значит — у неё есть будущее, туда она и стремится, чтобы исчезнуть в нём. И словам об уходящих несомненно есть куда вернуться: к своему источнику, в молчание, которое прежде начал и после всех концов. Значит, и они звучат не так уж безнадёжно, ведь надежда на молчание не преходит, ибо само молчание пребывает всегда, и слова повествования только потому и существуют, что стремятся исчезнуть в молчании. Подобно выступающим из ратушных часов фигурам они появляются из молчания, так же проходят перед глазами, сопровождаемые прощальными звоночками, и стремясь к концу своему — так же преходят в источник свой, молчание. Слова пробегают чуточку замедленно, как раз так, чтобы прощание с ними успело пресуществиться в архитектуру сцены, преобразить её и само повествование о ней. Слова выходят из ничто, и уходят в ничто, но без них ничего не начало бы быть, что начало быть однажды вечером в субботу: что есть.
Слова вышли из молчания и в него уйдут, но их появления и исчезновения вполне достаточно, чтобы слёзы разлуки с ними растворили жёсткие конструкции повествования, смешали контрастные материалы в однородность, лёгкие и тяжёлые его элементы, всё в нём высокое и низкое слили в одно. Свернули весь его длинный свиток в одно слово: прощай.