Но я почувствовала на своем локте его руку, которая крепко держала меня; он сказал:
— Пейтон, не говори больше. Что с тобой, лапочка? Послушай, что-то с тобой совсем нехорошо. Ты вся трясешься.
— Да, — сказала я, — часы…
Только…
— Садись, — сказал он. — Сядь тут и подожди минутку. — И он толкнул меня на стул. — У Маршалла тут где-то есть фенобарбитал. Подожди минутку… — Он двинулся было от меня, но я взяла его за руку.
— Нет, — сказала я, — все в порядке, дорогой, я буду в порядке. Я просто испугалась.
— Чего? — спросил он.
— Я не знаю, — сказала я.
— Ты принимала наркотики? — спросил он.
— Нет, — сказала я, — этот порок я не освоила.
— Ну так отдохни минутку, — сказал он. Потом произнес: — Ужас, ужас, ужас! — Его голос за моей спиной звучал громко, взволнованно, как и звук его встревоженных каблуков по скрипящему полу; я сидела, дрожа, и теперь возник спазм, и внутри нарастала боль, раздиравшая все органы — почки и желудок, и все вообще, и я вдруг согнулась пополам, видя, как темнеет свет, становится багровым над накрытой зонтом водонапорной башней, как отчаянно залетали, кружа, голуби, а вдали вроде раздался гром или это был грохот орудий? — Ужасно, — сказал он.
— Что? — спросила я. Боль отступила, ушла.
— То, что произошло с нами, — сказал он. — Вот что ужасно. Вот что.
— Я должна повидать Страссмена, — сказала я.
— Я думаю, да, — сказал он. — Почему ты не позволишь Ленни снова отвезти тебя туда? В понедельник.
— Это будет слишком поздно.
— Что? — сказал он. Он сел и взял мою руку.
— Я хочу сказать, — начала я. — Ох, дорогой, это не то, что мне нужно. Мне нужно! Мне нужно…
Он сжал мою руку.
— Успокойся, дорогая, успокойся.
— Хорошо, — сказала я.
И он сказал:
— Я с тобой, детка. — И снова: — Я с тобой, детка, — и погладил мою руку.
— Со мной беда, — сказала я, хотя, несмотря на это «я с тобой, детка», я чувствовала все то же отчаяние — не лучше и не хуже, — и это было странно, я этого не ожидала, а представляла себе, как будет расцветать радость, как мы поцелуемся или еще что-то, замрем в часах, и не будет ни страха, ни опасений, ни боли. Свет в небе менялся, по саду пошли тени — там кошка, растянувшись, спала в сумерках, и женщина в шали ходила, собирая цветы — гвоздики. Молодой мужчина вышел из дома и, зевнув, посмотрел на небо, протер очки, снова вошел в дом. Воздух был разгорячен от чувства вины; я потела. «Вот что, Гарри, — хотела я сказать, — почему ты такой со мной? Не из-за твоей же маленькой измены, право, я тебе чуточку отомстила, а просто потому, что ты всегда меня не понимаешь. Меня. О да, все началось с того, что ты положил руку на зад Марты Эпштейн, так что мне приятно было лечь там. Однако за этим всегда следовала вина: о Господи, неужели ты не способен был понять, как я страдала от пытки, которую я устраивала себе, насилуя себя? Почему ты не понимаешь меня, Гарри? Почему? Почему? Вот что меня на самом деле беспокоило, а не то, что ты должен смириться с тем, как я себя веду. Конечно, нет. Но что сделано, то сделано, ты должен постараться понять меня, потому что это не память или мечта и много мрачнее того и другого, и однажды, когда ты на меня рассердился зато, что в уборной не было туалетной бумаги, я готова была выпрыгнуть из окна — такой я чувствовала себя потерянной и бездомной, и вообще. Так что когда я приду к тебе, крича, что тону, и ты меня не поймешь, мне придется вернуться назад и накричать на него, задыхаясь от запаха молока. О, скажу я, ты никогда не понимал меня, Гарри, не понимал, что я грешила не из мести, а лишь затем, чтобы лечь в темноте и найти где-то в сплетении снов нового отца, новый дом. Докучливые птицы — они и наполовину не такие скверные, как ты со своим отсутствием понимания». Я отдернула руку.
— Ты просто никогда не пытался посмотреть с моей стороны, верно? — сказала я.
Какое-то время он молчал. Я решила, что он ничего не скажет. А он сказал:
— Что ты хотела дать мне понять?
Тут я пожалела, что сказала это: как всегда, я раскрываю рот и произношу раздраженные слова, не прошедшие через мое сознание, измышленные лишь той частью меня, над которой я не властна: моей виной.
— Что ты хотела дать мне понять? — повторил он монотонно.
— Я хотела, — сказала я, и я понимала, что надо продолжать, однако неужели даже теперь не избежать этого? — Я хотела сказать, Гарри, неужели ты не понимаешь? Все это, как оно ни скверно, просто реакция на то, что ты никогда не понимал меня. И не пытался.
Он встал.
— Это я-то не пытался? — сказал он. — О чем ты говоришь? Значит, не пытался! Да я два года только и делал, что старался понять тебя…
И я подумала: «О Иисусе, я сказала это, а ведь думала совсем другое, и теперь этих слов уже не взять обратно, а надо продолжать».
— Я хотела сказать, дорогой, — пожалуйста, не сердись, — я хотела сказать, что всякий раз, как я срывалась, в этом была не полностью моя вина, понимаешь? Вспомни Марту Эпштейн… — Я почувствовала, как меня всю передернуло от собственных слов, а потом его вздох.
— Ох, право же, Пейтон, я заболею от тебя. Это все, ради чего ты пришла сюда, — чтобы осложнить мне жизнь?
— О нет, дорогой, — поспешила я сказать. — Нет, не сердись. Пожалуйста, не надо. Просто я хотела сказать, что ты… что я бывала виновата, но я никогда ничего не делала, если ты не давал мне к этому повода. Когда я чувствовала, что не могу на тебя положиться или когда ты становился циничен…
— Циничен! — воскликнул он. — Кто же из нас циничен? Ты что, пытаешься сказать мне, что из-за нескольких случаев, когда я не выполнял твои малейшие причуды или не баловал тебя до полусмерти, ты имела право наставлять мне рога и, по сути дела, у меня на глазах! Почему, черт побери…
— Гарри, — сказала я, — не злись. Пожалуйста…
— Ужас! — произнес он. — Нет, это правда. Ты просто не можешь любить. Ты являешься сюда под предлогом извиниться и покаяться, а на самом деле хочешь, чтобы я сказал тебе, что это я должен стать на колени и просить у тебя прощения за грехи, которых не совершал. Ведь так, Пейтон, так?
— Да, — сказала я. — То есть нет. Нет, Гарри, пожалуйста, поверь мне…
Но он сказал:
— Почему ты не уходишь? Убирайся.
— Ох, Гарри, — сказала я, — ты просто не понимаешь.
— Можешь высушить свои слезы, детка, они на меня не действуют. Убирайся.
— Нет, — сказала я.
— Убирайся, — сказал он, — убирайся к черту отсюда, шлюха.
— Ох, Гарри, — сказала я, — опять ты за свое. Я же не такая. Если бы ты хоть понимал…
— У меня достаточно понимания, — сказал он. — В данный момент я понимаю: ты хочешь, чтобы я стал таким, каким ты видела меня многие месяцы. Чтобы посадил тебя к себе на колени и обнял своими сильными руками и сказал тебе, что был не прав насчет грязи под кроватью, что я был не прав, требуя, чтобы ты прекратила мотовство, что я был не прав, не позволяя тебе погубить нас обоих, будучи испорченным, избалованным ребенком, так что у тебя неверное представление обо мне. А теперь убирайся отсюда.
Я протянула к нему руки.
— Убирайся.
Они явились на краю моего сознания — бескрылые птицы: эму, и дронты, и страусы, и моа, чистящие свои перья при свете пустыни, страны дремы, пугающей меня, где я всегда лежала бы и дремала. Неужели он никогда больше не придет защитить меня от моего греха и вины? Я видела, как они степенно, горделиво расхаживали в дальних углах комнаты, у края стен, сквозь составленные рамы для картин, — все такие серьезные и неопасные в затопленном и удушливом воздухе. На улице воробьи чирикали и махали крылышками; кто-то крикнул вдалеке; я протянула руки.
— Убирайся отсюда, — сказал он.
— Я тону, — сказала я. — Помоги мне, Гарри.
— Убирайся.
Я встала.
— Я никогда не сумею набраться сил, чтобы снова прийти, — сказала я.
— Вот и хорошо.
Я прошла мимо мольберта, мимо разрушенного города, пыльных сумерек, трагически поднятых глаз.
— Не вынуждай меня уйти, — сказала я. — Такая красивая картина. Я помогу тебе.
Отклика не было; он стоял у двери, бессознательно застыв в позе, которую первым счел бы смешной: одна рука на ручке-шарике, чтобы открыть дверь, другая вытянута и указывает вниз, на коридор, — в позе классической и торжественной, карикатуре на отца, повелевающего мотовке, беременной дочери: уходи и никогда больше не возвращайся.
— Убирайся. — Лицо у него было красное, злое, упрямое. — Ничего хорошего из этого не получится, — сказал он. — Я пытался. Я много раз проходил через это.
— О’кей, — сказала я. Моя гордость. Потом я сказала: — Мне кажется, ты попытаешься понять. Я никогда так не поступала, кроме тех случаев, когда…
Он взял меня за локоть и подтолкнул к коридору.
— Хватит, — сказал он. — Тони тебя поймет. Расскажи Тони. Или расскажи своему старику — он посадит тебя к себе на колени и скажет, какая ты хорошая девочка. Что же до меня, то я этою набрался по… — И дверь за мной захлопнулась.
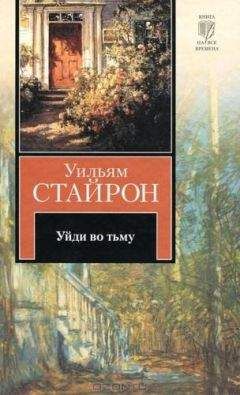



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
