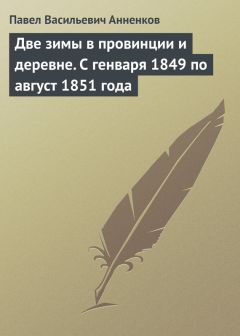— Заглядывает иногда по средам, — ответствовала со вздохом обиды на солнце деревня. — Вот оно, кстати.
— Редко заглядывает, а наши часы на посту день и ночь! Они день и ночь ударяют удары, считая течение жизни. Жизнь отстает, а часы — никогда.
— Долго мне ждать окончания прений? — хмыкнул ехидно монарх. — Я теперь ихнее солнце.
Кодла забегала бесами перед очками начальства. Прилюдную критику приняли все хорошо, как укол острия между ребер. Являя готовность исправиться, каждый спешил отличиться.
— Где там указ о порядке потехи? Стране покажи.
— Вы сами возглавите читку? — Ближайший по штату нахал и хранитель указа мгновенно поднес его монарху.
— Возглавлю, но документик испорчен изрядно. — Монарх обнюхал указ. — Изрядно листки твоей торбой пахнут.
— Убрать?
— Убери, сам огласишь эту вонь.
— Усек.
— Оглашай помаленьку.
— Граждане! Для воспаления плоти…
— Болван или кто?.. Для воспаления?.. Для воспарения… Для воспарения… Для вос-па-ре-ния!..
— Для вос-па-ре-ре-ния?.. Запоминающе… Граждане, действительно, для воспарения плоти на сушках указывается…
— Надо же так исказить! Еще сушки! Где сушки? Там — иначе. Не плоти на сушках, а плоти насущной… Пора в эмиграцию…
— Да, да…
— Что «да, да»? Мне пора в эмиграцию?..
— Да, на каких еще сушках, если тут оно сказано — как уточнили. Для воспарения плоти насущной народу ввести по стране комендантские дни потехи.
— Ввести насовсем, — обнадежил общественность Илларион.
— Особые самоуправные дни расточительства, пьянства, разврата.
— Разврата! — выкрикнул, очумевая, монарх.
— И дни кумовства, хвастовства, мордобоя, — перечислял исполнитель указа далее.
— Все равно каждодневно крадете, но календарные дни воровства, календарные дни вас обяжут — упри по закону…
Деревня соборно вникала в указ.
— И будут еще впереди фейерверки, где сможете бить у соседей носы, потому что простому народу как удовольствие против обыденной жизненной прозы нужны всевозможные праздники, — польстил, искушая деревню, хреновый хранитель указа в архиве зловония торбы. — Мне продолжать?
— Открой-ка, минуя страницу, параграф эротики.
— Пятый? Публично дозволены секс и насилие без одеяла. Как объявили потеху, не мешкайте, хватайте за попу… Знаете, попа где?.. Показать им?
— Обойдутся, пусть они сами додумают это.
— Можно хватать одинокое либо замужнее, чтобы похабно хотеть его…
— Стой! — дал отмашку монарх. — Это вздор! Это кого здесь им? Это которую вся по грудям? Это некого.
Деревня без оптимизма прослушивала чудные речи пришельцев и хмуро молчала в ответ, обмеряя в уме чертовщину, как ей понимать их устройство потехи. Нос у соседа не заслужил избиения, добрая тетка Матвеевна Фроська подавно слыла хлебосольной хозяйкой при муже, который не даст оскорбить ее честь. Если пусть этой потехи не будет, а будет игра на гармошке…
Деревня почти полчаса неподвижно думала.
Мол, это разве потеха?
Монарх и нахалы, конечно, могли применить убеждение силой.
Но Балалайкин осмелился снова приблизиться к Иллариону:
— Тхе-тхе… Не побрезгуйте выслушать…
— Откашляйся, Борька.
— Тхе-тхе…
— Ну, что? Что ты мне скажешь, откашлявшись?
— А мы, Ваша Светость ученый, подумали малую просьбу подать.
— Если малая просьба по малой нужде, разрешаю.
— Вы, как ученые люди, когда натощак… Откушать еды можно проще… Дело к обеду… Баранчик упрел и годится на блюдо…
— Баранчик? Я на диете.
— На травке, что ли? — Борька помялся. — Такое пузцо накопили неужто на травке?
— Ну? Какое пузцо?
— Да не всякий сундук уместит его целиком, а сами на травке?
10
В избе старика Балалайкина Борьки монарх обжирался бараниной.
Вскоре монарху на стол уложили красиво свинью, запеченную в яблоках.
Он ел и рыдал.
Остервенело рыдал, истязая клыками свиную кисту.
— Мать чесна! — дивился мысленно Борька. — Что за поруха? Куда же все влезло?
Нахалы бдили на страже с улицы.
Монарх отбрасывал им огрызки через окно:
— Диапедики, будьте любезны — гимн! Ублажайте меня до конца.
Нахалы заместо скрипучего по лесу ветра заныли какое-то гнусное пение.
Борька, печально взирая на гору костей филигранной работы, пошел из избы по другим интересам, — изба тошнотворно давила на грудь атмосферой, — запахи приторной пищи с угаром удушья погнали спасаться во двор.
У Борьки возникло предчувствие, что посреди прослоенного неба находится где-то высоко твой брат, — о нем ясновидящий в эту минуту Борька ни разу не слышал и все-таки знал его там.
— Эй, ты, старик урод! — окликнули Борьку.
Подле был юный балбес из отряда монарха.
— Тебе папироску, не рано ли начал? — улыбнулся Борька.
— Вези меня, старче, верхом у тебя на горбу по деревне, чтобы все видели! — вякнул юнец.
У старика драчуна задрожали поджилки:
— Ты, сирота, не дури.
В уборе текущего лунного золота небо слоями ползло мимо крыш и верхушек осин.
Эти деревья, фактически густо-зеленые, были фактически рыжими.
Но дрожь, овладевшая Борькой, трясла старика на другом основании.
Со смеху.
Борька хотел и не мог обуздаться.
— Тебе почему хорошо? — нервничал юноша. — Кто сирота — разберемся! Читай мою ксивную метрику, где все написано… Законного брака потомственный…
Борька порядком устал и разбито вернулся домой, как израненный жалом осы.
Немного слащаво зудела спина, запотевшая после вибрации, вызванной взрывами хохота.
11
Монарх, указуя на кошку, спросил:
— Съедобная?
— Кошка-то?
— Честь отдает? С улицы в избу вошла — сразу лапами честь инвалиду.
— Ваша Светость, ужасно блудливая тварь.
— Изволь отчитаться подробно, как оценить это. Разве народу понятно, кто светость и где твоя кошка в услышанной реплике? На слух ерунда получается, будто бы светость — ужасно блудливая тварь.
— Я про кошку подумал, а вы понапрасну себя подставляете.
— Не думай про кошек. От них, Борька, мыши разводятся. Да, да, мышей сами кошки разводят. Это у кошек уловка, тайный тактический ход уцелеть и прослыть убедительно стражами сала. Порви свою, мыши тотчас исчезнут. Если не справишься, пса на подмогу пришлю.
— Большая собака?
— Большая — с хвостом!.. У меня на груди чья медаль?
— А неужто собачья?
— Хочешь орден?
— Орден? А какой?
— Горбатого первой степени, как у министра, пожалую, хочешь?
— А собаку? Большая собака в хозяйстве нужна.
Покудова гость аккуратно раскладывал оползни брюха плашмя в углубленной постели за шторами, где приготовили пуховики, Борька навытяжку возле Матвеевны Фроськи вдоль узкого теса палатей дремал, уступая сознание первому сну.
Где-то звенела собачья медаль.
Он упал и проснулся.
Когда Балалайкин упал, он уловил отголоски повторного звяканья — между тарелками наверняка набирает очки блудливая кошка.
Старик изловчился впотьмах ошарашить ублюдицу плетью. Деревню потряс оглушительный вопль, и вопила не кошка. Вопил оглашенно монарх.
Огретый неласково Борькиной плетью по голой спине, венценосный растяпа-разиня подпрыгнул и выпрыгнул аж из избы, нагишом улетая в окно со стола:
— Ребята, мя-яте-ежж!..
12
Он озирал из окопного свежего рва непосредственно жуть у деревни Шнурки.
Туда нагнетали форсунками бяку горящей химической слизи.
Монарх излучал из окопа свое сладострастие на предстоящие новые смерти деревни Шнурки, где проходили последние муки, последние крики, последние корчи сопутствующей белиберды, когда перископ у монарха споткнулся видоискателем о Балалайкина Борьку с ухмылкой, значение коей монарх оценил отрицательно, как издевательство заново.
— Тромб, изыди! — заерзал Илларион, осуждая кривляния жертвы. — Зачем огрызаешься вопреки пеклу.
13
Ступка за ступкой горели в амбаре дешевые ступки крестьянского скудного скарба, плыла щеколда ворот и роем озлобленных огненных ос из-за пазухи разом исчезла махорка.
Старик удручался предложенной смертью — что слишком она простовата.
Галстука даже не надо.
Когда-то Борька на случай своей предстоящей кончины когда-то купил у цыгана поношенный шелковый галстук.
Утро должно быть у Борьки на случай кончины.
При галстуке Борька на смертном одре торжественно значится важным объектом озябшей деревни, как и сама колокольня, которая посередине всего.
Первая стадия бедствия шла не стеной.
Покудова первая стадия бедствия шла на него не стеной, Борька стоял у колодца, где во спасение шкуры для галстука мог обновить эту древнюю впадину как убежище.