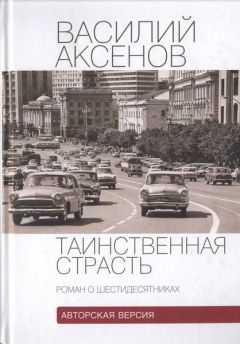Играл рояль. На возвышение поднимались друзья Роберта композиторы-песенники. К микрофону один за другим подходили певцы: Бокзон, Эль-Муслим, Балуев, Эдита, Валентина… Звучало то, что можно было бы назвать «массовой лирикой» умирающего Советского Союза, то, что сделало Роберта Эра народным поэтом:
«Луна над городом взошла опять…»
«А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала…»
«Вы не верьте в мою немоту…»
«Сладка ягода в лес поманит…»
«Покроется небо пылинками звезд,
И выгнутся ветки упруго.
Тебя я увижу за тысячи верст.
Мы — эхо.
Мы — эхо.
Мы долгое эхо друг друга…»
«Как тебе сейчас живется, вешняя моя… странная моя?»
«Песни главные есть в судьбе любой: колыбельная и поминальная…»
«Видно, много белой краски у войны…»
«Не думай о секундах свысока…»
«Я прошу, хоть ненадолго,
Грусть моя, ты покинь меня!
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому…»
«И живу я на земле доброй за себя и за того парня…»
«Если со мною случится беда. Грустную землю не меряй шагами…»
«Такие старые слова, а как кружится голова…»
«Светло и торжественно смотрит на них огромное небо, одно на двоих…»
«Не только груз мои года, мои года — мое богатство…»
«Дайте до детства плацкартный билет…»
«Смотри, какое небо звездное…»
Ваксон медленно передвигался в толпе, чтобы увидеть профиль Роба. Он ловил на себе странные взгляды. Многие при виде него обменивались шепотками; что-нибудь, по всей вероятности, вроде: «Смотрите, Ваксон пришел. Ну и ну, вот это да». Здесь было много «гвардейцев» развалившейся Империи: космонавты, например, творцы различных секретных «изделий», бонзы агитпропа и дезинформации, лауреаты Сталинских и Ленинских премий, солисты Большого балета и чародеи фигурного катания… ну, в общем, читатель, припомни сам, на ком держался в пучинах времени коммунистический кашалот. Все они привыкли считать Роберта Эра одним из основных «преторианцев», и увидеть среди скорбящих «антисоветчика» Ваксона было для них курьезом. Некоторые протягивали ему руку — например летчик-испытатель, дважды Герой СовСоюза Захар Гуллай, — и он ее пожимал. Иных он не узнавал, но все-таки пожимал руки, хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, что персона может оказаться «нерукопожатной». Так, не узнав, он пожал руку журналисту-международнику Эдуарду Микелию, и только потом вспомнил некоторые эпизоды, связанные с временами «холодной войны».
Однажды, в период наведения телемостов, он увидел Микелия на talk-show Тэда Копола. Шел разговор о свободе слова и распространения печати. Кто-то спросил Микелия, продаются ли в Москве основные органы западной печати. Тот, ничтоже сумняшеся, ответствовал, что на каждом углу. К сожалению, они успехом не пользуются среди населения. Он как-то упустил из виду, что среди диспутантов находится многолетний московский корреспондент «Вашингтон Пост» Боб Хайзер. Глядя ему прямо в глаза, Боб сказал: «Shame on you, Edward». И вдруг — о чудо из чудес! — лицо профессионального брехуна стало заливаться краской стыда.
Итак, пожимаем лапу профессионального брехуна. Они, кажется, дружили. Во всяком случае, дружили детьми. Помнится, он говорил про этого: «Эдька, конечно, работает на государство, но все-таки он хороший парень». А самое главное состоит в том, что он все-таки покраснел, когда его пристыдили на TV. Ради Роба отпустим ему грехи. Здравствуй, старик.
Хуже обстоит дело с другой персоной, которая издалека то и дело бросает на Ваксона эдакие свойские взгляды. Одутловатый толстяк, жидкие волосы зачесаны плотно назад, подстриженные усики и баки — полностью неузнаваем! Единственная что-то напоминающая деталь его обличья — это светло-серый костюм. На лацкане какая-то золоченая медалька. Из нагрудного кармана выглядывают очочки на цепочке; чтобы не потерялись.
Костюм свисает обширными кулуарными складками; значит, похудел за последнее время; писатель, что ли?
Тот начал медленно дрейфовать к Ваксону. По дороге останавливался переброситься репликами с кем-нибудь, улыбался, иногда вроде даже похохатывал; вообще вел себя скорее как на коктейле, чем на панихиде поэта.
Наконец сблизились.
— Приветствую вас, — сказал незнакомец, и тут Ваксон узнал его по голосу: да ведь это же не кто иной, как Юрий Юрченко, многолетний оргсекретарь Союза писателей СССР! Чем сейчас занимается этот человек, некогда клеймивший его за диссидентские взгляды? Уже и союзов этих не существует, ни социалистического, ни писательского; из мощной организации, руководимой верным сыном партии Юрием Онуфриевичем Юрченко, произросло несколько хилых союзиков, склочничающих друг с другом из-за предметов офисной мебели.
Он вспомнил рассказ Роберта об одном эпизоде, который позволил ему навсегда зачислить Юрченко в разряд «хороших парней». Это было в одной из стран «народной демократии», то ли в Польше, то ли в Чехословакии, в общем, в Татрах. Они спешили с делегацией в автобусе по извилистой дороге. Ночью на полном ходу въехали в заболоченное озеро и перевернулись. И вот товарищ Юрченко вовсе не заказал себе самоварчик с бутылочкой, а напротив — всю ночь вытаскивал пострадавших и среди прочих вытащил хорошенькую журналистку, которая стала его верной подругой.
— Вы надолго к нам? — спросил он Ваксона.
В это время выступал Олжас Сулейменов. В микрофоны шла его речь: «Роберт как никто другой из своего поколения был поэтом Великого Государства. Поэтому, наверное, и не перенес его гибели».
— Вы к нам надолго? — повторил вопрос Юрченко.
— Надолго, — ответил Ваксон.
— Вот это хорошо, — Юрченко одобрительно притронулся к его локтю. — Вы знаете, Аксён Савельевич, мы тут устраиваем широкомасштабное мероприятие, Сахаровские чтения. Не хотели бы принять участие?
Раньше на этом круглом лике при помощи прищура глаз и брюзгливо откляченной губы всегда торжествовала маска еще не до конца высказанной мощи, в том смысле, что все еще впереди и мало вам не покажется. Теперь обалдевший Ваксон в новой юрченковской мимике улавливал подобострастие.
В течение нескольких минут молчания звучал Шопен.
— Так что скажете, Аксён Савельевич? — напомнил ему свой вопрос Юрченко.
— Ничего, — только и ответил он и стал отдаляться в сторону тех стульев, где сидели их женщины, чтобы поцеловать Анку, Ритку, дочерей и взять за руку Ралиссу: приближался час окончательного прощания.
Тушинский стоял над гробом, закрыв лицо своими длинными ладонями. Потом опустил ладони и стал читать стихи Роберта из «трагического цикла»:
Ах, как мы привыкли шагать от несчастья
к несчастью…
Мои дорогие, мои бесконечно родные, прощайте!
Родные мои, дорогие мои, золотые, останьтесь,
Прошу вас, побудьте опять молодыми!
Не каньте беззвучно в бездонной российской общаге.
Живите. Прощайте…
Тот край, где я нехотя скроюсь, отсюда не виден.
Простите меня, если я хоть кого-то обидел.
Целую глаза ваши.
Тихо молю о пощаде.
Мои дорогие. Мои золотые.
Прощайте!
Постичь я пытался безумных событий причинность.
В душе угадал…
Да не все на бумаге случилось.
Волга-река. И совсем по-домашнему: Истра-река.
Только что было поле с ромашками…
Быстро-то как!..
Радуют не журавли в небесах, а синицы в руках…
Быстро-то как!..
Да за что ж это, Господи?!
Быстро-то как…
Только что, вроде, с судьбой расплатился, —
Снова в долгах!
Вечер в озябшую ночь превратился.
Быстро-то как…
Я озираюсь. Кого-то упрашиваю, как на торгах…
Молча подходит Это. Нестрашное…
Быстро-то как…
Может быть, что-то успел я в самых последних
строках!..
Быстро-то как!
Быстро-то как…
Быстро…
Люди, всевозможные, оставшиеся, поднимались к возвышению, медленно обходили гроб, целовали покойника— мужчины в скрещенные на груди руки, женщины в лоб. Ваксоны все еще двигались в низинах, приближались: Ваксон впереди, Ралисса за ним.