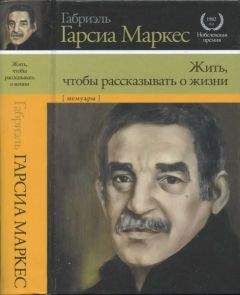Тем не менее мое лучшее воспоминание тех дней заключалось не в том, что я сделал, а в том, что я чуть не сделал благодаря бредовому воображению моего старого дружка из Барранкильи Орландо Риверы, Коротышки, которого я неожиданно встретил во время одной из немногочисленных передышек от расследования. Он жил в Медельине вот уже на протяжении нескольких месяцев и был счастлив, недавно женившись на Соль Сантамарии, прелестной монахине свободного духа, которой он помог выйти из закрытого монастыря после семи лет бедности, послушания и непорочности. Во время нашей попойки Коротышка мне раскрыл, что приготовил со своей супругой и на свой страх и риск искусный план, чтобы вытащить Мерседес Барчу из ее интерната. Один друг, приходский священник, известный своим искусством свата, был бы готов поженить нас в любую минуту. Единственным условием, разумеется, было, чтобы Мерседес была согласна, но мы не находили способа посоветоваться об этом с ней, в четырех стенах ее плена. Сегодня больше, чем когда-либо, меня терзает гнев, что у меня не хватило решимости прожить эту драматичную трагедию. Мерседес со своей стороны узнала об этом плане через пятьдесят с лишним лет, когда прочитала о нем в черновиках этой книги.
Это был последний раз, когда я видел Коротышку. На карнавале 1960 года, переодетый в кубинского тигра, он поскользнулся и упал с карнавальной повозки, которая везла его обратно домой из Баранои после цветочного турнира, и он свернул себе шею на мостовой, усыпанной карнавальным мусором.
Во второй вечер моей работы над «Оползнями в Медельине» меня ждали в гостинице два редактора ежедневника «Эль Коломбьяно», настолько молодые, что были даже моложе меня; с решительным намерением сделать со мной интервью о моей деятельности начинающего писателя. Им стоило труда убедить меня, потому что с некоторых пор у меня появилось предвзятое отношение, возможно, и несправедливое, к интервью, понимаемым как сеанс вопросов и ответов, где обе стороны делают усилия, чтобы поддержать разговор. Я мучился от этого предубеждения в двух ежедневниках, в которых работал, и прежде всего в «Кронике», где попытался заразить моим неприятием сотрудников. Тем не менее я дал то первое интервью «Эль Коломбьяно», и оно было самоубийственно искренним.
Сегодня не счесть интервью, жертвами которых я был на протяжении пятидесяти лет и в половине мира, и все же я не смог убедить себя в эффективности этого жанра. Большинство интервью, которых я не смог избежать по какой-либо теме, должны будут рассматриваться как важная часть моих художественных произведений, потому что они и есть только это: фантазии о моей жизни. В свою очередь, я их считаю неоценимыми, но не для публикации, а как основной материал для репортажа, который я оцениваю как звездный жанр лучшей профессии в мире.
В любом случае времена были не для праздников. Правительство генерала Рохаса Пинульи, уже в открытом конфликте с прессой и большей частью общественного мнения, увенчало сентябрь решением разделить далекий и забытый департамент Чоко между тремя его процветающими соседями: Антиокией, Кальдасом и Балле. В Кибдо, административный центр, можно было добраться из Медельина только по однополосной автомобильной дороге, которая была в таком плохом состоянии, что требовалось более двадцати часов, чтобы проехать сто семьдесят километров. Сегодня условия не лучше.
В редакции газеты мы предполагали, что мало можем сделать, чтобы помешать четвертованию, постановленному правительством, находящимся в плохих отношениях с либеральной прессой. Примо Герреро, старейший корреспондент «Эль Эспектадора» в Кибдо, сообщил на третий день, что народная демонстрация из целых семей, включая детей, заняла главную площадь с решением оставаться там, на солнце и под открытым небом до тех пор, пока правительство не откажется от своего намерения. Первые фотографии мятежных матерей с детьми на руках производили все меньшее впечатление с течением дней, вследствие урона от ночного бодрствования жителей, стоящих под открытым небом. Мы ежедневно усиливали эти новости в редакции издательскими статьями или заявлениями политиков и интеллектуалов из Чоко, проживающих в Боготе, но правительство казалось готовым выиграть благодаря безразличию. Через несколько дней все же Хосе Сальгар подошел к моему письменному столу со своим карандашом кукловода и сообщил, что мне вскоре предстоит расследовать, что же на самом деле произошло в Чоко. Я попытался дать отпор, исходя из того небольшого авторитета, который заработал благодаря репортажу из Медельина, но его мне не хватило. Гильермо Кано, который писал за нашими спинами, крикнул, не глядя на нас:
— Отправляйтесь, Габо, женщины из Чоко лучше, чем те, которых вы желали бы увидеть на Гаити!
Так что я уехал, не спросив себя даже о том, как можно написать репортаж о демонстрации протеста, которая отказывается от насилия. Меня сопровождал фотограф Гильермо Санчес, который вот уже несколько месяцев мучил меня ворчанием, чтобы мы вместе сделали военные репортажи. Сытый по горло его ворчанием, я прокричал ему:
— Какая война, на хрен?!
— Не валяй дурака, Габо, — выпалил он мне разом правду, — да от вас лично я слышу то и дело, что эта страна находится в состоянии войны, начиная с Независимости.
Ранним утром во вторник 21 сентября он явился в редакцию одетый больше как солдат, чем как фотожурналист, обвешанный камерами и сумками, чтобы ехать со мной освещать в печати войну, которую замалчивали. Первым удивлением было, что в Чоко мы приезжали раньше, чем отправлялись из Боготы через вспомогательный аэропорт без услуг какого-либо класса, с кучами останков грузовиков и покрытых ржавчиной самолетов. Наш самолет, все еще живой благодаря волшебному искусству, был одним из легендарных «Каталин» периода Второй мировой войны, эксплуатируемый для перевозки грузов одним гражданским предприятием. Не было кресел. Внутри было скудно и темно из-за маленьких, затянутых тучами окошек и все забито тюками с волокном для производства щеток. Мы были единственными пассажирами. Второй пилот в одной рубашке, молодой и стройный, как летчики в кино, научил нас сидеть на тюках с грузом, которые ему показались более удобными. Он меня не признал, но я знал, что он был заметным бейсболистом чемпионатов «Ла Матуны» в Картахене.
Взлет был жуткий даже для такого хитрого пассажира, как Гильермо Санчес, из-за оглушающего рева моторов и металлического грохота фюзеляжа, но раз стабилизировавшись в прозрачном небе саванны, самолет ускользнул с решимостью ветерана войны. Тем не менее за пересадочным пунктом Медельина нас застал врасплох затопляющий все ливень над спутанной сельвой между двумя горными хребтами, и мы вынуждены были войти в него в лоб. Тогда мы пережили то, что, возможно, пережили очень мало смертных: дождь шел внутри самолета через щели фюзеляжа. Второй пилот, друг, прыгая между тюками с метлами, принес нам дневные газеты, чтобы мы их использовали как зонтики. Я накрылся моей, заслонив лицо, не столько затем, чтобы защитить себя от воды, сколько для того, чтобы никто не видел, как я плачу от ужаса.
По окончании примерно двух часов удач и случайностей самолет наклонился вправо, спустился налетом над массивом тропического леса и сделал два пробных поворота над главной площадью Кибдо. Гильермо Санчес, готовый с воздуха фотографировать демонстрацию, истощенную бессонными ночами, обнаружил только безлюдную площадь. Обшарпанный самолет-амфибия сделал последний виток, чтобы проверить, что не было ни живых, ни мертвых препятствий на спокойной реке Атрато, и закончил удачное приводнение в дремоте полудня.
Церковь, залатанная досками, скамьи из цемента, испачканные птицами, и одна мулица, которая топала копытами в ветвях гигантского дерева, были единственными признаками человеческого существования. Пыльная и пустынная площадь ни на что, казалось, не была так похожа, как на африканскую столицу. Нашим первым намерением было сделать срочные фотографии толпы в состоянии протеста и отправить их в Боготу на возвращающемся самолете, пока мы доставали достаточно информации из первых рук, которую мы могли бы передать по телеграфу для утреннего выпуска. Но ничего из этого не было возможно, потому что ничего не произошло.
Мы прошли без свидетелей по самой длинной улице, параллельной реке, обрамленной закрытыми на обед торговыми палатками и зданиями с балконами из дерева и проржавленными крышами. Это была великолепная сцена, но не хватало трагедии. Наш добрый коллега Примо Герреро, корреспондент «Эль Эспектадора», беззаботно спал после обеда в весеннем гамаке под густой кроной деревьев своего дома, словно тишина, которая его окружала, была спокойствием могил. Простота, с которой он нам объяснил расслабленность, не могла быть более объективной. После демонстраций первых дней напряжение ослабло из-за отсутствия причин. Тогда был мобилизован весь город с помощью театральных приемов, были сняты несколько фотографий, которые не были опубликованы, потому что были не очень правдоподобными, и произносились патриотические речи, на самом деле встряхнувшие страну, но оставившие невозмутимым правительство. Примо Герреро с этической гибкостью, которую, может быть, Бог ему простил, поддержал живой протест в прессе яркими вспышками телеграмм.