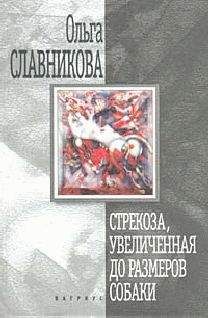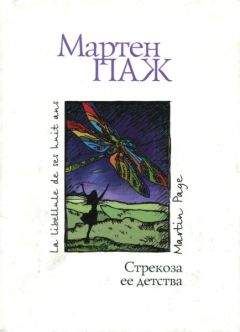Софья Андреевна и правда осталась дома, где по-житейски некрасивые, изуродованные собственной полезностью предметы обстановки обрели после завершения всяких перемен матовые, отрешенные оттенки вечности. Сознание Софьи Андреевны было не здесь, а неизвестно где, но какая-то часть ее продолжала видеть собственный земной конец и место, где она, как человек, осталась насовсем,– все, что туда попало, вплоть до чужой брошюрки, чьи буквы были для покойной, точно в лупе, велики и расплывчаты. Облик Софьи Андреевны не мог исчезнуть из ряда застывших обликов, среди которых Катерина Ивановна, из-за того что двигалась, чувствовала себя чем-то совершенно временным, не имеющим собственного места.
После того как она, вернувшись с похорон, обнаружила мать на диване, где та возилась, перебирая тонкими руками и ногами, будто увязнувшее насекомое, в душе Катерины Ивановны образовалась пустота. На другое утро, после обрывочных снов, замешенных на каких-то пьяных дрожжах, она, как полагается, поехала на кладбище. Там между мирно мреющих могил бродили грязные, в старой зимней вате, нестрашные кошки обычных цветов, тихо плясали в воздухе перезимовавшие бабочки, вытертые почти до капрона обтрепанных крыльев, привядшие гвоздики у мамы в головах были будто выпачканы томатной пастой. Мамина могила располагалась пока последней в кладбищенской застройке, дальше, за этим краем, сквозил молодой березнячок, и ощущалось что-то школьное, в его белизне, в том, как каждое дерево было, словно детской рукой, удлинено и подрисовано его волнистой чернильной тенью. Катерина Ивановна вдруг подумала, что этот березняк, куда уходит укромная, словно далее не протоптанная, а чуть примятая тропинка, административно относится к кладбищу, что это и есть территория кладбища, где-то невидимо огороженная и предназначенная для дальнейшего заселения, чем бы она ни выглядела со стороны. Поняв, что не может долго стоять на таком краю, Катерина Ивановна поспешила домой и в горячем, с боку на бок валившемся автобусе мечтала только как следует выспаться – но дома ее тихо встретила безликая Софья Андреевна. Она сидела на диване в неглаженом халате, к тапку ее пристал отбеленный до бумаги прошлогодний березовый лист.
Безмолвная мать была в квартире не всегда. Временами от нее оставались только ровные платья в свежеисцарапанном шифоньере, чьи пустые воротники были глухо застегнуты на пуговицы, да немытая обувь в засохшей земле, уже непохожей на ту, что была под окном,– туфли и боты жались парами, словно жалели друг дружку, и особенно горевали зимние сапоги, сложившие друг на друга пустые тусклые голенища. Катерина Ивановна пользовалась для себя только одной тарелкой, чашкой, вилкой и ножом – держала их отдельно, составленными в эмалированную кастрюльку, которую никак не удавалось отчистить и в которой вечно кисла мутная вода. Если матери не было рядом, дочь, случалось, брала руками какую-нибудь полузабытую вещь – но на пыльной глади, где она стояла, сразу возникал такой болезненный и резкий след, что Катерина Ивановна спешила поставить вещь на место, как можно точнее на ее подошву, и потом старательно обходила взглядом изувеченный предметик, где от неловкой хватки оставались как бы темные синяки. Обстановка квартиры от пыли и забвения казалась все более грубой, будто картонной и в то же время делалась страшно чувствительной к любому прикосновению. От Катерины Ивановны требовалось все больше внимания, чтобы ничего не задеть, она ходила будто по канату, буквально теряла равновесие на ровном полу и за всякой мелочью, вроде ниток и таблеток, бегала к соседу Михаилу Израилевичу, угощавшему ее пригорелыми сырниками и вязкими кусочками особым образом приготовленной моркови.
У Михаила Израилевича, ставшего в последние годы очень толстым и потому сидевшего боком за кухонным столом, вновь открылся в полупустой белесой комнате зеркальный рояль, такой же громадный и прекрасный, как и много лет назад, так же отражавший лица и теснивший в углы кособокие книжные стеллажики и необыкновенно ветхую кровать, укрытую до пола байковым одеялом и превращенную завалами книг и газет в подобие муравейника. На рояле теперь занимался приходящий внук хозяина, некрасивый мальчик с большими зубами и удивительно нежной кожей, облегавшей все костлявости длинного лица. Казалось, он совсем не умел говорить, а мог только играть, он даже не разучивал урок, а просто начинал и останавливался, не веря, что эти звуки, бесплотно построенные в воздухе, вызваны всего лишь нажатием клавиш: по длинной черно-белой клавиатуре, божественно лишенной букв, его неправильные пальцы, как бы плохо связанные в кисти и имевшие по лишнему суставу, ходили безо всяких запинок и препятствий. Этот настороженно-тихий ребенок, вызванный на кухню ужинать, все старался перекладывать и переставлять совершенно бесшумно, словно такие вещи, как табуретка и тарелка, вовсе не должны были звучать; пока он одними губами, как лошадь, подхватывал с вилки пропитанную сладким жиром дедову стряпню, Катерина Ивановна и Михаил Израилевич сидели в совершенном молчании. Словно желая все вокруг сделать чистой видимостью, мальчик игнорировал гостью в квартире у деда, зато всегда, подламываясь в каком-то девчоночьем книксене, здоровался с нею на лестнице, чем Катерина Ивановна почему-то гордилась. Печальный Михаил Израилевич, подперев седым кулаком толстую щечку цвета вареной колбасы, жаловался ей, что в квартире родителей мальчика просто некуда поставить этот дорогой рояль, что такую концертную вещь может держать у себя только одинокий человек. Катерина Ивановна завидовала старому соседу, сторожу сокровища, завидовала внуку, не сознающему собственного счастья,– ведь она понимала, что этот ломкий тихоня, как бы старающийся все немузыкальные предметы разложить на весу, владеет роялем совсем не так, как прежние девчонки из двора, бывало, ковырявшиеся в нем безвольными мягкими пальчиками. Совершенно рухнула иллюзия, будто рояль чем-то подобен пишущей машинке, этому железному горбу, заслонившему мир; Катерина Ивановна вдруг осознала, что она давно перестала различать в машинописном фарше живые слова. Чувствуя в тяжелых руках мощную крабью сноровку ежедневной работы, Катерина Ивановна не смела даже прикоснуться к желтоватым клавишам, простиравшимся, когда она тихонько к ним садилась, на ширину директорского стола. Очевидная симметрия квартир, при которой раковина, ванна и унитаз странно удваивались общей стеной, будто флаконы на подзеркальнике, еще больше сковывала Катерину Ивановну; она, как в отражении, путала право и лево, и ей все время казалось, что, если хочешь тронуть какой-то предмет, надо вести рукой в обратную сторону. Если бы Катерина Ивановна знала, что этот рояль, больше и чудеснее, чем легковой автомобиль, принадлежит ей по наследству от покойного отца, получившего его в подарок от хромой асимметричной женщины, неспособной принадлежать мужчине отдельно, без своего инструмента, она, быть может, не завидовала бы никому и обрела бы в Зазеркалье остров реальности, освободилась бы от плена отражений, водивших ее словно на косо натянутых нитках, не давая касаться ногами земли. Может быть, отцовское наследство, порождение любви или влюбленности, в отличие от материнского, не давшегося в руки, спасло бы Катерину Ивановну, дало бы ей опору в жизни. Но она считала, что не имеет отца, и ничего от него не ждала.
Она не боялась покойной матери, тихо скользившей по комнате, и вообще не понимала, почему это люди так страшатся мертвых родственников, не имеющих ничего, кроме облика, столь подобного им самим. Материнский силуэт, видный боковым неверным зрением, казался узким и неполным, словно картинка в полураскрытой книге, он появлялся и исчезал, западал, точно между страниц, меж каких-то складок стоячего воздуха. Если же Катерина Ивановна прямо глядела на мать, та в ответ тоже поворачивала к дочери землистое лицо: были ясно видны густые, как штопка, морщинки на обвислых щеках и под двумя серебряными старыми глазами, чей экстатический отлив как-то заменял направленный взгляд. Иногда привидение садилось напротив Катерины Ивановны – вроде бы здесь и в то же время далеко, точно перспективы комнаты имели свойства перевернутого бинокля. Порою Катерина Ивановна видела в руках у матери маленькие пяльца с висящими по кругу складками ткани и грубой, будто птичья лапа, изнанкой какого-то узора: иголка с невидимой нитью ходила в воздухе, далеко вытягивая душу, и в плавных наклонах работы, согласованных с наклонами головы, было что-то оркестровое, что-то от игры на скрипке, на одной басовой хлопковой струне. У Катерины Ивановны на коленях тоже путалось кусками ветхое шитье, она и мать то и дело переглядывались, перекусывая нитки; тогда Катерина Ивановна чувствовала недостаточность зрения, точно ей на брови натянули тесную шапку.