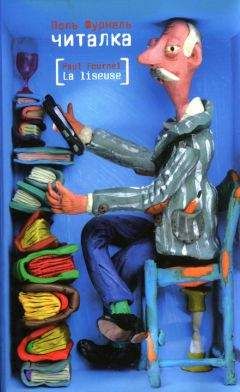— Спереди задирается, — констатировала она.
Верхняя часть сжимала грудь, а нижняя расширялась, как колокол, в котором худенькие ноги Кароль болтались колокольными языками. Как ни старайся, а спереди, действительно, задиралось.
Чтобы окончательно не портить ей настроение этим стихарем, были приняты экстренные меры. За два дня мама сшила новое белое платье. Сначала решили, что оно должно быть скромным, но швея так увлеклась, что сотворила роскошный наряд, который, ей Богу, подошел бы для маленькой невесты.
Тем временем Кароль продолжала молиться на ночь, размышлять о катехизисе и ходить в школу. В пятницу вечером она вернулась домой на десять минут позже, вся красная, но рассказывать удивленной матери ничего не захотела. Приступили к последней примерке. Платье было отличное и хорошо раздувалось, когда Кароль, поднявшись на цыпочки, кружилась перед зеркалом.
Ночь перед великим днем была ужасной. Кароль ворочалась в кровати и никак не могла заснуть, и, когда утром ее разбудила мама, девочке показалось, что она только что заснула.
Ее одели, причесали; она повторила про себя молитвы, обернула длинную свечку фольгой, и все отправились в дорогу.
Церковь в соседнем городке была больше — причастие решили провести там. Кароль видела ее однажды, когда участвовала в свадебном картеже, но зайти внутрь так и не осмелилась. Церковь считалась огромной, роскошной, а по мнению редких деревенских прихожан, даже слишком просторной. Она была из серого камня, с колоннами, вокруг которых носились дети, и тонкими арками, а еще со старинными витражами, проходя сквозь которые — если верить тому, что говорили — разноцветные лучи терялись под беспредельными сводами. Ее подружка Мадлена, которая однажды поехала туда одна, на велосипеде, чтобы посмотреть, чем другие похороны отличаются от похорон ее мамы, рассказывала, что от каждого шага по плитам звук возносится к небу, потом спускается, стократно усиленный, заполняет всю церковь и теряется в ее самых далеких уголках...
Волею судьбы первой в церковь вместе с толстухой Жозианой вошла Кароль. Едва ее каблук коснулся пола, она поняла, что именно Мадлена имела в виду; несмотря на орган и гул, доносящийся с улицы, чистый красивый звук ее шагов сразу же вознесся к своду. Она в жизни не видела ничего более великолепного и потрясающего. Вся церковь освещалась свечами и цветными отблесками витражей; на алтаре стояли два больших букета, а музыка была такой красивой, такой громкой, что Кароль захотелось танцевать.
Еще раньше, перед входом, бабушка Алины сказала Кароль, что она очень красивая, и она ей поверила. Рядом с ней толстуха Жозиана, казалось, совсем не собиралась наслаждаться зрелищем. С непроницаемым лицом и потупленным взором, она молча шла между скамьями, подстраиваясь под шаг Кароль и следуя за ней к двум указанным местам в первом ряду.
Mecca оказалась очень красивым зрелищем. Все преобразилось, все преисполнились восторгом.
Кароль несколько раз обернулась; сквозь лес горящих свечей она увидела омываемые оранжевым светом отрешенные лица своих подруг, их угомонившиеся руки.
Ей же не удавалось достичь подобной безмятежности. Как по волшебству, свечи, которые держали ее приятели, не оплывали, а ее свеча, несмотря на то, что она была точно такой же, плавилась во влажной руке, от чего в носу опасно пощипывало. Воск капал ей на подол, но, из боязни еще больше испортить платье, она не решалась наклониться. Раньше огонь свечей, излучающих такой нежный свет, казался ей божественным; теперь же она волновалась, представляя себе, каким сущим адом может стать церковь, если все эти стихари вдруг загорятся. В груди она ощущала еще большую тяжесть, чем та, к которой с недавних пор пришлось привыкнуть. Чтобы перевести дыхание, она просунула под воротник левый указательный палец, покрутила головой, но напрасно: дыхание перехватило. Она уставилась на большую картину, изображающую Христа на кресте, попыталась сосредоточиться, заклиная себя не думать о капающей свече, но не смогла ничего с собой поделать.
Когда, непосредственно перед самым причастием, грянул орган, толстуха Жозиана наклонилась к ней и торжественно объявила:
— Я пойду в монашки.
Тереза легонько хлопнула ее по плечу и прошептала:
— Я видела Бога!
Кароль ничего подобного не видела. Ей тоже хотелось увидеть Бога или Христа, или, по крайней мере, Деву Марию, но она видела только трех мальчишек, которые зажали ее в тот вечер в коридоре, чтобы потрогать ее груди. Она как будто снова слышала их смех, чувствовала на себе их руки; она заставляла себя думать, насколько все это было неприятно, хотя и странно. Но получалось только странно.
И поскольку это случилось с ней уже после исповеди, на обратном пути, то значит сегодня, в день своего причастия, она оказалась в состоянии смертного греха.
Как будто нарочно, для причастия ей пришлось встать на колени прямо напротив алтаря. Кюре держался обычаев и сам клал им просфоры на язык. Толстуха Жозиана, как всегда ко всему готовая, ждала, закрыв глаза и раскрыв рот. Кюре подошел.
Кароль не могла больше терпеть, грех должен быть предан огласке, и она должна быть прощена. Она набралась духу и крикнула:
— Мне кажется, что у меня будет ребеночек!
И тут она увидела. Ее голос материализовался в какой-то флюидный поток, который разделился на две части, чтобы обогнуть алтарь, затем, обретя цельность, забрался в глубину хоров, пронесся перед картиной с Христом и ринулся на штурм сводов. Кароль ждала, когда ее голос, усиленный, громкий, как музыка органа, обрушится с потолка, по воле Небес, на всех прихожан, на всех ее подруг, на родителей, трубя во всеуслышание о ее грехе для того, чтобы ее от него избавить. Она надеялась увидеть, как голос будет разделяться, разветвляться, разноситься, чтобы весть о ее драме ни от кого не ускользнула и чтобы ее причастие было настоящим причастием. Но, увы. Голос остался сжатым, цельным, он поднялся к самому высокому своду, между нефом и хорами, собрался в шар и внезапно обрушился ей на голову, только ей одной.
Прошло не меньше минуты, прежде чем она отчетливо услышала свою фразу, и кюре наклонил ее голову для причастия.
У старенькой бабушки Аделины была идея-фикс: она не желала признавать, что время проходит. Она делала вид, что не замечает асфальт, который покрывал деревенскую улицу, она существовала, как будто никто не выдумывал джинсы, и в домах по-прежнему не было отопления.
Она воспитывала свою внучку, как когда-то воспитывали ее саму. Таким образом, она была уверена, что не ошибется и сможет позаботиться о том, чтобы ее подопечная выросла и состарилась, по крайней мере, как она сама, что, как ей представлялось, значительно лучше, чем все остальные.
Аделина училась в школе, ходила в магазин, помогала на кухне, корпела над домашними заданиями, играла в саду по средам, высаживала чечевицу и бобы в формочки с мокрой ватой, наливала молоко для кошки, приглашала на свой день рождения подруг и ела сдобные булочки по воскресеньям утром перед банным мероприятием.
В доме не было ванной. По будням Аделина быстро умывалась над каменной раковиной на кухне, — где они большую часть времени и проводили. А по воскресеньям она совершала свое «банное мероприятие».
Бабушка приносила из подвала цинковый таз и ставила его на пол. Насаживала на кран резиновый шланг и поливала из него Аделину, как из душа. Пока бабушка мыла ей голову, голая Аделина стояла прямо, с закрытыми глазами, а затем мылась сама с маниакальной старательностью и добросовестностью. Она любила запах большого хозяйственного мыла, которое держала обеими руками, намыливая себе живот; она любила налегать всем телом на раковину, чтобы закрыть или открыть кран, она любила воду, которая выплескивалась из таза и блестела на паркетном полу.
Пока она мылась, бабушка раскладывала на ее кровати чистую одежду. Каждое воскресенье Аделина одевалась во все чистое — такое было правило.
Когда старуха возвращалась на кухню, Аделина была уже готова. Она заворачивалась в широкое белое махровое полотенце, от которого пахло лугом, и сохла.
Чтобы она не простудилась и не испачкала себе ноги, бабушка вытирала ей спину, переносила в комнату и ставила на коврик у кровати перед шкафом с зеркалом.
На дворе был октябрь, недели две как начались холодные дожди; пока они еще чередовались с солнечными деньками, но Аделина уже перешла на зимнюю одежду. Бабушка одевала ее, как когда-то ее саму одевали ребенком и как она сама до сих пор одевалась.
Сначала Аделина натянула трусики и «фланельку» — теплое белье, которое носят зимой; сверху она надела льняную сорочку с квадратным декольте в стиле ампир и кружевными бретельками. Затем бабушка заставила ее поднять руки и облачила в корсет из плотного розового тика, завязывающийся сзади. «Чтобы талию держать», — приговаривала она.