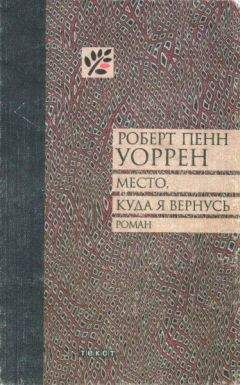Я не обнял ее. Я даже пальцем до нее не дотронулся. Я перелез на ее сторону, осторожно уперся левой рукой в сиденье позади нее, приподнялся, опираясь на правую руку, и наши губы встретились.
По сравнению со всей напряженностью нашего предшествовавшего разговора, с той бурей чувств, которая сотрясала все мое существо, это мгновение оказалось до смешного малозначащим. Я ощутил только прохладную сухость ее губ, чуть шершавых, как будто в крохотных шелушинках помады, и легкий привкус корицы.
И ради этого стоило городить весь огород?
Но все изменилось после того, как ее губы чуть-чуть приоткрылись с едва слышным вздохом — легким дуновением, которое я ощутил только своими губами.
Поцелуй, как и требовалось, был долгим, медленным, нежным, но, безусловно, не страстным. Когда я оторвался от ее губ и сел рядом с ней, наши тела не соприкасались. Мы смотрели не друг на друга, а прямо перед собой, на залитую лунным светом автостоянку. Через некоторое время она нащупала мою правую руку, подняла ее и прижалась щекой к тыльной стороне кисти, повернув лицо в сторону.
А потом моя рука стала мокрой от слез.
— В чем дело? — спросил я, глядя в ее склоненный затылок.
Не поднимая головы, она приглушенным голосом спросила из темноты:
— Ты совсем не разбираешься в девушках, да?
— Да.
Я хотел произнести это сердито, но голос мне не повиновался.
Было ясно, что я и в себе не могу разобраться. Что-то со мной происходило, но что? Я не так далеко продвинулся в своих занятиях литературой, дабы понять, что, как говорит в пьесе Марло доктор Фауст, «поцелуй Прекрасной Елены сделал меня бессмертным».
Но не совсем так, как описывает это Фауст. «Твои губы выпили мою душу, — говорит он Елене. — Видишь, вон она летит!» А губы Розеллы вовсе не выпили мою душу. Наоборот, они вдохнули душу в меня, и я сидел, чувствуя, зная, даже видя, как в сухой, взбаламученной тьме моего существа разгорается все ярче крохотная светлая точка, превращаясь в сияющий шар, и я понемногу, боясь поверить, понял — это и есть умиротворенность и покой.
Онемев от этого сияющего блаженства, я сидел, повторяя про себя одно слово — «любовь». Оно не выходило у меня из головы. «Наверное, это она и есть», — думал я про себя в изумлении. Но тут пришла еще одна мысль: чтобы познать любовь, чтобы ее чувствовать, надо кого-нибудь любить.
Моя голова сама собой медленно, нехотя, почти через силу повернулась к склоненной голове девушки, чья мокрая от слез — причины которых я постигнуть не мог — щека была прижата к тыльной стороне кисти моей правой руки.
Левая моя рука потянулась вперед вместе с туловищем, медленно и осторожно, словно боясь нарушить хрупкое равновесие. Еще немного, и она дотронется до этой склоненной головы. Я вдруг понял, что сижу задержав дыхание. Мне хотелось положить руку на эту голову. Как благословение. В знак благодарности. В общем, что-то в этом роде.
Моя рука так и не достигла своей цели. Намеренно или нет, но момент был выбран точно, и этого не случилось.
Розелла неожиданно села прямо. Вытерла глаза. Пригладила волосы. Провела по губам помадой, потом обтерла их в темноте. Снова взяв меня за руку, она подвинулась на сиденье, отворила дверцу машины, потянула меня за руку, вышла и уже стояла снаружи, все еще не выпуская моей руки, — прежде чем я сумел произнести:
— Что?.. Что?..
— Пойдем заглянем ненадолго, — сказала она. — Прежде чем уехать.
— Но мы не… — начал я.
Она потянула меня за собой.
— Только на минуту, — сказала она, не глядя на меня.
Я медленно пошел рядом с ней, все еще как будто оглушенный. Ее рука не сжимала мою, а просто держала — уверенно, спокойно, безразлично. Мне на мгновение вспомнилось, как держала меня за руку мать, ведя за собой, когда я был маленький.
Мы вошли в спортзал. Играла музыка, все танцевали. Я не помню, что играли, а помню только кружащиеся фигуры, разноцветные воздушные шары и ленты, висящие под высоким потолком, а потом тело Розеллы, вдруг прижавшееся к моему, и ее обращенную ко мне улыбку, полную, казалось, радостной уверенности в себе, когда она сказала:
— Ну только один раз, только минутку — потанцуй со мной!
Я не успел опомниться, как мои руки уже обнимали ее. Я ощущал нежную и плавную игру ее мышц при каждом движении и чувствовал, как она, крепко держа мою левую руку в своей правой и прижавшись ко мне, незаметно вела меня в танце.
Разнообразные чувства переполняли меня.
Но тут я вдруг заметил кое-что еще. На нас смотрели. Танцующие замедляли свои движения, чтобы лучше нас видеть. Понемногу отступая, они расположились полукругом (мы были у самых дверей) и следили за нами. И те, кто был подальше, тоже замедляли свои движения. Все глаза были устремлены на нас.
На какое-то мгновение я застыл под этими взглядами. Потом одним движением стряхнул с себя руки Розеллы и выскочил в дверь. В наступившей тишине я услышал позади быстрое и отчетливое постукивание ее каблуков по паркету. Я уже шагал прочь, когда ее голос позвал меня.
Я услышал, что она бежит за мной, почувствовал, что она схватила меня за руку.
— О, Джед! Джед! — вскричала она.
Я остановился и полез в карман.
— А, ключи, — сказал я преувеличенно вежливо.
— Джед! — повторила она.
Глаза ее были полны слез.
Я швырнул ключи к ее ногам.
— Вот твои вонючие ключи, — сказал я.
Дальше она за мной не пошла.
В тот вечер, в первую субботу июня 1935 года, я покончил с Дагтоном, а Дагтон покончил со мной. Правда, мое тело еще задержалось там на все лето — оно работало на лесопилке ради сорока центов в час и для поддержания формы, а также совершало всякие другие физические действия. Но душой я был уже в пути к какой-то далекой, неопределенной цели.
То, что произошло через полчаса после того, как я швырнул ключи к ногам Розеллы, было, надо думать, предсказуемо. В бильярдной недалеко от железнодорожного депо я повстречал Мела Баркхема — полузащитника нашей команды, который, если ему вообще суждено было закончить школу, должен был это сделать еще два года назад. В тот момент он был занят тем, что выпивал, как обычно по субботним вечерам, — перед ним стоял уже пятый стакан дешевого виски. Я к тому времени еще ни разу не притрагивался к спиртному. По девкам я таскался, это было, но никакой выпивки. Пока шел футбольный сезон, я всерьез тренировался, а после окончания сезона виделся с приятелями по команде очень редко. Но тут я выпил, а потом повторил, и не один раз.
Время было уже позднее, но мой приятель, в свое время посвятивший меня в тайны греха, сказал, что, возможно, сумеет растолкать одну из тех девчонок, которые соглашаются на все за четвертак. Что он знает, у какого окна она спит в хибарке, где живет ее семья, да и вообще им на это наплевать. Надо только бросить в окно камешек.
Девица сразу крадучись перелезла через подоконник, словно черная змейка через лежащий на земле ствол. Позади багажной конторы был сарайчик, где, как сказал Мел, хранились брезенты, а поскольку он работал там, у него был ключ.
Когда мы вышли из сарайчика, луна уже садилась за угольным складом, и Мел сказал, что одной черномазой девке сегодня пришлось вовсю потрудиться, но зато она здорово разбогатела.
Ушел из дома я в тот вечер с двумя долларами. Один я потратил на билет в кино, две порции мороженого и свое первое знакомство с любовными переживаниями. Вторым я расплатился с девчонкой. У моего приятеля оказалось всего девяносто центов, но, когда мы пошли по четвертому кругу, она предоставила ему кредит на десять центов. Я так и не знаю, получила она эти десять центов или нет.
Я помню, что потом мы еще пили, но как добрался до дома, не помню. Помню, я лежал на кровати, одетый, уставившись на лампочку без абажура, горевшую под потолком, и хохотал, как сумасшедший. Я все еще хохотал, когда вошла мать в просторной белой ночной сорочке, босиком, с распущенными черными волосами. Она принялась колотить меня по груди обоими кулаками, но я ничего не чувствовал. Я ничего не чувствовал и тогда, когда она стала бить меня по лицу. Но помню, как кровь текла у меня из носа и стекала по щекам. А в конце концов она схватила башмак — мой башмак.
С тех пор нос у меня не такой, каким был до этого.
Следующее, что я помню, — это воскресный полдень. Я вышел из своей комнаты и стоял, держась за ручку двери и чувствуя себя довольно скверно. Мать сидела и шила. Она не спеша воткнула иголку в шитье и посмотрела на меня.
— Доброе утро, — сказала она очень спокойно.
— Доброе утро, — сказал я.
— Ты еще не смотрелся в зеркало? — спросила она.
Я сказал, что нет.
— Поди посмотрись — перепугаешься. Ты как будто с медведем дрался, и он тебя победил.
Я ничего не сказал. Она пристально смотрела на меня.