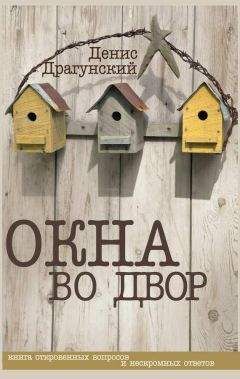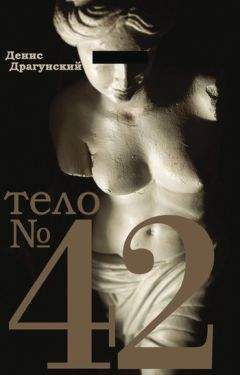Муж Елены Сергеевны, Павел Павлович, сидел на корточках, по-собачьи положив стриженную ежиком седую голову на край кровати и тихонько целуя холодеющие пальцы умирающей. Она громко дышала, мутно глядя на него.
— Лена, Лена, Лена, — шептал он. — Леночка, не делай этого, не надо… Я не смогу без тебя жить. Пожалей хоть меня…
— Ты все врешь, — просипела Елена Сергеевна.
— Леночка! — Его била дрожь.
— Ты проживешь еще одну жизнь… Еще одну дуру замучаешь, как меня.
— Лена, не надо! Я тебя люблю. Я тебя не переживу. Мы умрем вместе.
— Не паясничай. — Она прикрыла глаза. — Радуйся тихо.
Он в голос заплакал, схватился за голову и выбежал из комнаты.
Спустя минуту раздался выстрел. Шум падения. Чей-то крик. Сын вскочил и выбежал прочь. Скоро он вернулся. С перекошенным лицом.
— Мама, — сказал он, кусая губы. — Мама, папы больше нет. Он застрелился. Я пойду вызову милицию, тебе позвать сиделку?
— Не надо, — проговорила она. — Уйди. Уйди.
Она осталась одна. Глубоко вздохнула и вдруг почувствовала, что с ней что-то странное происходит, непонятное и жуткое, но прекрасное, вот что ужасно. Она вдохнула еще и еще раз, ощущая забытую свободу в легких. Она пошевелила рукой — рука шевелилась легко. Она против воли улыбнулась. Правой рукой взяла с тумбочки пластырь, вытащила иглу из вены в левой руке, ловко заклеила ранку. Онемевшие пальцы левой руки ожили. Пошевелила ногами, сбросила простынку. Увидела, что ноги у нее не старушечьи, а женские. Села на кровати. Шепотом чертыхнувшись, брезгливо выдернула из себя катетер. Ей захотелось пописать, по-нормальному, по-человечески! Встала, одернула полотняную сорочку. Тапочек, конечно, не было. Она сделала два шага босиком. Ее пошатывало, голова чуть кружилась, но было как в ранней юности, когда она вставала с постели после гриппа: возвращение радостного желания жить.
Она бесшумно вышла в коридор. Ах да. Муж застрелился. Вот в этой комнате. Надо бы самой убедиться.
Елена Сергеевна толкнула дверь. Он сидел в кресле, смотрел в окно и ждал, когда она умрет.
Бог знает, что он не знает
Юлия Лаптева, в девичестве Белавина, сказала своему тестю: «Вы стары, и скоро Бог призовет вас к Себе. Он не станет спрашивать, хорошо ли шли ваши дела, сколько вы купили и продали и на этом заработали. Он спросит, были ли вы добры к людям, не обижали ли тех, кто слабее вас…» (Чехов, «Три года», цитирую по памяти).
Но эта милая дама была в плену старинных предрассудков.
Мы даже предположить не можем, о чем нас спросит придирчивый старик с косматой белой бородой. Совсем не обязательно это будут сусальные вопросы о любви к ближнему и о том, ведала ли моя шуйца, что творила моя десница.
Он может спросить, например: почему я в своей диссертации пять раз сослался на Петрова и ни разу — на Сидорова? Или: зачем я ел шоколад с миндалем, а не с фундуком?
Промысел Божий тем и интересен, что абсолютно непостижим. А предопределение тем и увлекательно, что неизвестно, но — неизменно.
Это не значит, что мы должны бросить все старания и стремления. Есть такой особо противный вид безделья и равнодушия к себе: вроде как мы рабы судьбы, и поэтому надо сидеть тихо.
Это значит как раз наоборот — не надо бояться своих ошибок.
Как не боится их Бог.
Вот, рассказывают, умер Эйнштейн, попал на небеса и стал просить аудиенции у Творца. Намекая на свои особые заслуги.
Ладно. Но только пять минут, не больше. Бог спрашивает:
— Чего тебе?
— Самую малость, — говорит Эйнштейн. — Уравнение общей теории поля.
— Всего-то? Да делов-то! — говорит Бог и велит ангелам принести доску и мел.
Он пишет, пишет, пишет, и вдруг Эйнштейн говорит:
— Стоп. Вот тут ошибка!
— Я знаю, — говорит Бог. И продолжает писать.
Разговор с Господом о блинах
У Аверченко есть рассказ про мальчика, который слышит, что завтра будут блины. Он не знает, что такое блины. Он думает, что это какое-то необычайное событие и в честь этого события — какое-то необычайное блюдо.
В самом деле: кухарка мечется, горничная бегает в магазин, мама дает указания, всё чистится и моется, накрывается стол, зажигаются свечи, приходят красиво одетые гости, конфеты-букеты, поцелуи-приветы, просто великий праздник! И вот приносят блины. «О! Блины!» — радостно кричат взрослые, они толпятся вокруг стола, накладывают, наливают, нахваливают.
А мальчик громко плачет. Его окружают, гладят, утешают, спрашивают, в чем дело. «Они круглые! — рыдает мальчик. — И тестяные!»
Проще говоря, оладушки. И все. И фунт дыма.
Грандиозная в своей банальности (или банальная в своей грандиозности) проблема. Волшебные блины оказываются простыми оладушками. Ну, не совсем простыми. Чуть больше размером. Чуть пористей. И шуму вокруг больше. Можно сказать пошлость: один видит в праздничных блинах будничные оладьи, другой и в будничных оладьях может рассмотреть праздничные блины. Но как все это скучно… Господи, почему такая тоска?
— Господи, слышишь ли?
— Слышу, слышу, — психотерапевтичным голосом отвечает Господь.
Не сам, конечно, а его голос, записанный на автоответчик. Ибо подобных стенаний возносится к небу столь великое множество, что у Господа Бога нет физической возможности ответить лично каждому.
— Слышу, слышу, — отвечает Господь. — Оставьте ваше подробное сообщение, и с вами обязательно свяжутся.
Когда? Когда в глазах померкнет свет и дух покинет плоть? Или все-таки раньше, когда блины не будут превращаться в кусочки сыроватого горячего дрожжевого теста, а останутся праздником, который хоть и не всегда, но все же с тобой?
Сплошные вопросы.
— Если у вас есть дополнительные вопросы, нажмите единицу в тоновом наборе или дождитесь ответа оператора.
Но оператор — тоже запись. Он тоже предложит оставить свои вопросы и пообещает связаться. Во благовремении.
В старинной Большой Советской Выездной Анкете был замечательный финальный пассаж: «Если у вас есть ответы на вопросы, которые здесь не заданы, напишите их на отдельном листе (листах) и вложите в данную Анкету».
Список вопросов — не заданных, но бьющих в точку! — тут же сам собою складывается в испуганной голове. И уже не до блинов.
Он резал колбасу и говорил:
— А я тут с Ленкой повидался. Двадцать лет прошло, обалдеть можно. Помнишь Ленку?
— Редкое имя, — сказал я.
— Привет тебе! — сказал он. — Из третьего подъезда. А ты что, к ней не кадрился?
— Нет.
— А я подкадрился, — вздохнул он. — Классная была девочка. И сейчас ничего. Давно замужем, сын — студент… Я говорю: «Как сына-то звать?» Она говорит: «В честь отца». Я говорю: «Ну и как мужа твоего звать?» Она говорит: «Муж у меня Олег Андреевич, а сына я назвала Димой. В честь отца». И на меня смотрит, прямо в глаза.
— Ничего себе! — Я даже присвистнул.
— Вот то-то и оно, — сказал он.
— Хоть на парня поглядел? — сказал я.
— Нет. А зачем?
— Ну, просто, — сказал я. — Взрослый сын, обалдеть. И вообще родная кровь.
— Зачем зря расстраиваться? — сказал он, сгружая колбасу на тарелку и принимаясь за помидоры. — Зачем парня расстраивать? Вообще я не верю в голос крови.
— Правильно не веришь, — сказал я. — Врет она. Мне она то же самое говорила.
— Что? — спросил он.
— То, — сказал я. — Такими же словами. Сына в честь отца, Димой. И в глаза смотрит. Мы же тезки с тобой, ты что, забыл? Классная была девочка, верно. И сейчас тип-топ.
— Ты же сказал, — он развалил помидор надвое, — что к ней не кадрился…
— Я не кадрился, — сказал я. — А она подкадрилась. Ты чего надулся? Она всем врала, тебе и мне тоже.
Он двинулся на меня. Столик уронил, колбаса на пол. У него сносило крышу, прямо на глазах. Здоровый такой бык, накачанный. И нож в руках. Что я должен был делать? Что? Хорошо, там на полу гантели лежали. Едва извернулся, тюкнул и ушел.
Через годик не стерпел, позвонил Ленке. То да се, как муж, как сын, как вообще. И кстати, как наш общий друг Димочка, если, конечно, помнишь.
— Помню, — говорит.
— Давно, — говорю, — его не видел. Лет двадцать, наверное. Как мы со старого двора разъехались, не видел. Жив или как?
— Или как, — говорит. — К сожалению.
— Ничего себе! — Я даже присвистнул. — А такой вроде здоровяк был.
— Да при чем тут? Убили твоего тезку. Нашли на квартире. Криминальные разборки.
— А что, он бандитом стал? — говорю.
— Да нет. Это у ментов отмазка такая. Чтобы не искать.
— Понятно. Сыну рассказала? — ляпнул, сам не знаю зачем.