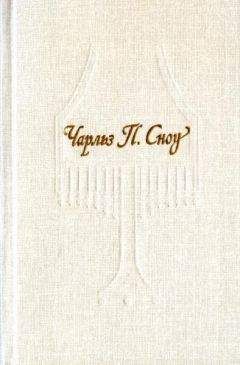— Меня удивляет такая щедрость с твоей стороны, — сказал он. — Не лучше ли было бы отложить эти деньги на погашение долгов твоего отца?
Сказал он это, не подумав, с ничем не оправданной жестокостью. И эта неоправданная жестокость не могла не произвести на ребенка страшного впечатления — более страшного, чем первое знакомство с похотью. Мне было больно, стыдно, но еще сильнее обуревала меня злость, — я готов был схватить ассигнацию и на глазах у Пека разорвать ее на мелкие кусочки.
— Позволь мне дать тебе один совет, дружок, — благодушно продолжал Пек. — В конечном счете он тебе сослужит недурную службу. Ты ведь способный мальчик, и я забочусь прежде всего о твоем будущем. Потому-то я и хочу дать тебе этот совет. Бить на эффект вовсе не так уж трудно, Элиот! Но подлинным испытанием характера для таких способных мальчиков, как ты, может быть лишь упорный труд и выполнение своего долга без расчета на награду. Запомни эти мои слова.
Словно сквозь сон я услышал подобострастное хихиканье учеников. Когда я повернулся к классу лицом и пошел на место, смех немного утих, но тут же возобновился, ибо Пек сказал:
— Скоро я и сам последую этому совету, стану выполнять свой долг и начну упорно трудиться без всякого расчета на награду, иными словами, буду объяснять геометрические теоремы тупицам, которым до конца своей жизни не вбить их в свои пустые головы. Но сначала покончим с пожертвованиями. Итак, с благодарностью принимаем всякое доброхотное деяние. Финглтон!
— Два шиллинга, сэр.
— Фрир!
— Шиллинг.
Я смотрел и слушал, раздираемый гневом и болью.
В обеденный перерыв Джек Коутери остановил меня на дворе. Это был живой, энергичный мальчик, маленький, но сильный, с большими то смешливыми, то печальными глазами драматического актера.
— Не надо расстраиваться из-за Пека, — весело и доброжелательно сказал он.
— А я нисколько и не расстраиваюсь.
— Ты побелел, как простыня. Я думал, что ты сейчас заревешь.
У меня не было привычки сквернословить, как у большинства моих сверстников, — мама иначе воспитала меня. Но сейчас все мои муки, злоба и гнев вылились в ужасающее ругательство. Джек Коутери даже растерялся.
— Ну, ты уж совсем распоясался! — заметил он.
По дороге к трамвайной остановке, где пути наши расходились, он не вытерпел и спросил:
— А старик твой и в самом деле увяз в долгах?
— В известной мере, — сказал я, пытаясь скрыть истину и в то же время не прибегая к явной лжи: мне хотелось напустить туману, чтобы не выдать своего горя. — В известной мере. Вопрос этот очень сложный, речь идет о… банкротстве. — И со всей важностью, на какую я был способен, я добавил: — Все сейчас в руках стряпчего.
— А у моего отца все в порядке, — в свою очередь напуская на себя важность, объявил Джек Коутери. — Я мог бы внести сегодня гораздо больше. Старик мой зашибает бешеные деньги, хоть и не любит признаваться в этом. Он дал бы мне и фунт, если б я попросил. Но, — он понизил голос до шепота, и глаза его загорелись, — но фунт этот я оставлю про запас, для кое-чего другого.
Дома мама встретила меня нетерпеливым вопросом:
— Ну, как восприняли твой взнос, сынок?
— Неплохо, — ответил я.
— А дал кто-нибудь больше десяти шиллингов?
— Нет. В нашем классе таких не было.
Мать выпрямилась и кивнула.
— Значит, мы пожертвовали больше всех?
— О да.
— А какая была самая крупная сумма после нашей?
— Пять шиллингов, — сказал я.
— Значит, мы дали в два раза больше, — с довольным видом улыбнулась мама. Но интуиция подсказывала ей, что тут что-то не так. — А что же сказали по этому поводу, сынок?
— Поблагодарили, конечно.
— Кто принимал пожертвования? — спросила она.
— Мистер Пек.
— Он остался доволен тобой?
— Ну конечно, — отрезал я.
— Я хочу, чтобы ты слово в слово повторил мне все, что он сказал, — потребовала мама, отчасти из тщеславия, отчасти из желания понять, что меня гнетет.
— Сейчас не могу, мама. Мне надо поскорее вернуться в школу. Вечером я тебе все расскажу.
— Какой же ты неблагодарный! — сказала мама. — Скольких усилий мне стоило добыть тебе эти деньги! Неужели я не заслужила того, чтобы ты рассказал мне все сейчас же?
— Я вечером расскажу.
— Можешь не беспокоиться, если тебе это так трудно, — высокомерно произнесла мама, решив, что я не люблю ее.
— Вовсе не трудно, мама, вечером я все расскажу, — повторил я, не зная, куда девать глаза.
В тот вечер я не пошел из школы домой, а долго бродил один вдоль канала. Поднимался туман, такой же легкий и прозрачный, как утром, но сейчас он яростно клубился, окутывая мосты, склады и росшие на берегу деревья, и ничуть не радовал моего взора. За время моих скитаний в тумане я придумал историю, которая должна была вполне удовлетворить маму: как мистер Пек сказал, что мой поступок служит примером для всего класса; как он рассказал об этом другим учителям; как кто-то из них заявил, что мои родители — сознательные люди. Я подобрал подходящие к случаю выражения. У меня хватило здравого смысла придать им правдоподобное звучание и добавить несколько пренебрежительных фраз, якобы брошенных завистливыми одноклассниками.
Дома я повторил эти измышления маме. Но ничто уже не могло сгладить пережитого ею разочарования. Я выглядел в ее глазах невнимательным, бездушным существом, и если даже она и поверила моей выдумке, то сейчас все это лишь слегка польстило ей: ее прежде всего озадачивала моя отчужденность. Мне казалось, что, сочиняя эту историю, я избавляю маму от горьких переживаний. Однако я проявил бы гораздо больше любви к ней, сказав правду, позволив ей разделить со мною бремя моих мук. Моя ложь показала, какая пропасть лежит между нами.
Впрочем, в ту осень выпадали вечера, когда между мной и мамой устанавливалась необычайная близость. То были вечера, когда мама изучала французский язык. Увидев как-то у меня французскую грамматику, она загорелась желанием позаниматься вместе со мной. Французский язык казался ей изысканным и благородным, эмблемой и символом той жизни, к которой она всегда так страстно тянулась. Стоило нам разложить учебники на столе в гостиной, как ее красивые живые глаза загорались. Здоровье ее день ото дня слабело, ее мучили частые приступы головокружения, но занималась она, как во времена своего девичества, с огромным интересом, душевным подъемом и верой в свои силы.
— Пора садиться за французский, — взволнованно говорила она, когда наступал субботний вечер.
Занятия мы начинали после чая, и мама очень огорчалась, если у меня недоставало терпения высидеть больше часа. Частенько в эти субботние вечера дождь хлестал по окнам и выл осенний ветер, а мы с мамой под этот аккомпанемент штудировали французскую фонетику.
Однако мои старания научить ее правильному произношению успеха не имели. Французские слова она усваивала только по написанному и считала, что вполне можно произносить их на английский лад. Но зрительная память у нее, как и у меня, была хорошая, и она запоминала все быстро и легко. Вскоре она уже могла переводить несложные фразы из моей хрестоматии. Это доставляло ей неописуемое удовольствие. Держа меня за руку, она переводила предложение за предложением.
— Правильно? Правильно? — восторженно вскрикивала она и улыбалась мне. — Тебе не стыдно за свою ученицу, сынок?
Глава 6
ПЕРВЫЙ ШАГ В ЖИЗНИ
Я старался не вспоминать о требованиях, которые предъявляла ко мне мама и которые я пока не мог выполнить. Забыть о них было тем легче, что мои успехи в школе — впервые за многие годы — давали маме основания для надежд. Она по-прежнему занималась гаданием на картах и на кофейной гуще, стала участвовать в конкурсах на решение головоломок, которые помещали журналы «Ответы» и «Джон Буль», но только в моих баллах за четверть видела она возможность для осуществления своих честолюбивых мечтаний. Получив мой табель и досконально изучив его, она надевала свое лучшее платье и, церемонно выворачивая ступни, горделиво шествовала к тете Милли, доктору и викарию.
У мамы появилось еще больше оснований для гордости, когда я сдал экзамены за среднюю школу. Занятия кончились, и я ждал результатов экзаменов. Стояло великолепное лето 1921 года. Однажды вечером я возвращался домой со стадиона после целого дня, проведенного на солнце. Вечер был душный, вдалеке погромыхивал гром. Подходя к дому, я увидел в окне маму и брата, которые усиленно махали мне.
Дверь мне открыла сама мама. В руках у нее была вечерняя газета. Несмотря на сердечный приступ, перенесенный этим летом, выглядела мама прекрасно, на щеках у нее играл румянец, глаза блестели.
— Ты уже знаешь, сынок? — спросила она.