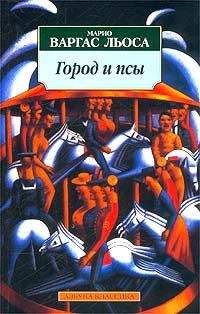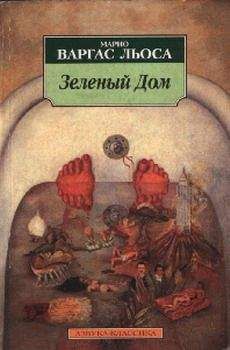Если утром было не слишком холодно или теплое солнце появлялось под вечер на сером небе, Альберто разувался под ободряющие крики, засучивал штаны и начинал прыгать возле берега. Он ощущал холод воды и гладкую поверхность камней и, придерживая штаны одной рукой, брызгал другою на ребят. Те прятались друг за друга, потом разувались сами, кидались на него, брызгались, начинался бой. Позже, промокнув до нитки, они вылезали на берег и, разлегшись на камнях, обсуждали обратный путь. Лезть вверх было особенно трудно. Дотащившись до своей улицы, они валились на траву у Богача, курили сигареты, прихваченные на углу, в таверне, и сосали мятные лепешки, чтоб потом не воняло табаком.
Когда не играли в футбол, и не ходили к морю, и не обсуждали велогонки, они шли в кино. По субботам ходили на утренний сеанс в «Эксельсиор» или на Рикардо Пальма, чаще всего – на балкон. Садились в первом ряду, шумели, бросали вниз зажженные спички и громко комментировали вслух то, что происходило на экране. По воскресеньям все было иначе. Им приходилось идти к обедне в школу Champagnat, только Эмилио и Альберто учились дальше, в центре. Почти всегда, не заходя домой, прямо в школьной форме, они встречались в десять у Центрального парка, садились на скамейку, глазели на тех, кто шел в церковь, и переругивались с ребятами из соседних кварталов. После обеда шли в кино, теперь уже в партер, нарядные и причесанные, задыхаясь в твердых воротничках и в галстуках, которые завязывали мамы. Кое-кто приходил с сестрами; остальные плелись за ними по проспекту и обзывали их няньками или кавалерами. Девочек в их квартале было не меньше, чем ребят, они тоже между собой дружили, а с мальчишками были на ножах. Если ребята видели девчонку, они гнались за ней, драли ее за косы и смеялись над ее братом, а тот ныл: «Она папе пожалуется, а он мне всыплет, что я ее не защищал». Если же кто-нибудь из ребят попадался один девчонкам, они показывали ему язык и дразнились, а ему приходилось терпеть позор и, багровея от стьща, идти, не ускоряя шага, чтобы они не думали, что он трус, юбок боится.
«А они не пришли – офицеры, наверное, помешали. Мы уж думали, идут, повскакали, а дежурные говорят: „Тихо, это солдаты". Подняли ночью всех этих дикарей, собрались они на плацу, с винтовками, прямо хоть в бой, и сержанты и лейтенанты, не иначе как разнюхали. Пятый, правда, хотел прийти, мы потом узнали, они всю ночь готовились, говорят, пращей наделали и аммиачные коктейли припасли. Ну а материли мы этих солдат – они совсем сбесились, штыки нам показывали. Кто-кто, а он это дежурство не забудет, говорят, полковник его чуть не побил, а может, и стукнул разок. „Уарина, вы просто размазня", – говорит. Мы его так осрамили перед министром, перед послами, что он чуть не плакал. Так бы оно и кончилось, если бы не этот праздник на другой день, – „превосходно, полковник, превосходно", – они как обезьян нас показывали, строевые упражнения на плацу перед архиепископом, и обед, и гимнастика перед генералами, и маршировка в парадной форме, и речи, и обед с послами. Все знали: что-то будет, как перед грозой. Ягуар говорил: „Сегодня мы должны их победить по всем видам, чтоб ни одного очка не получили, ни по гимнастике, ни по бегу". Сперва было ничего, заваруха началась с каната, до сих пор руки болят, а как они орали: „Давай, Питон!", „Так его, Питон!", „Жми, жми, жми!" Еще утром, до завтрака, мы с Ягуаром ходили к Уриосте. Он нам сказал: „Хоть тресните, а победите, дело идет о чести взвода". Один Уарина ничего не знал, вот балда. А у Крысы нюх что надо, говорит: „Вы мне только попробуйте при полковнике что-нибудь затеять! Эй, кто это там ржет?" Тихо ты, Худолайка, зубы в ход не пускай.
Народу собралась куча, солдаты принесли стулья из столовой, нет, это, кажется, было в другой раз, ну все равно, куча народу, все в мундирах, и не разберешь, кто из них генерал Мендоса. Наверное, у которого больше орденов, а как вспомню про микрофон, не могу, смешно, вот уж, можно сказать, не везет, оборжались мы, прямо уделались со смеху; эх, был бы Гамбоа на его месте; нет, как вспомню, прямо уделаюсь. Кто бы мог подумать, что до такого дойдет, правда, пятый на нас сразу зверем смотрел, и губами шевелили, как будто матерятся. Мы, конечно, тоже ругаемся. Эй, Худолайка, полегче! „Построились, кадеты? Ждите свистка". В микрофон говорят: „Вольные движения". „Так, поворот, еще, еще". „Вперед, шагом марш". „А теперь турник, надеюсь, хорошо помылись, паршуки?" „Раз, два, три, быстрым шагом. Приветствуйте". Этот малек на турнике – будь здоров, вроде бы и мускулов нету, а как вертится. Полковника мы тоже не видели, да нам и ни к чему, уж я его помню, выпендривался, а сам свинья свиньей, вот говорят – „военная выправка", а как его вспомню – ремень отстегнет, и сразу брюхо до земли, морда кирпича просит. Я думаю, он любит одни торжества и парады. „Смотрите, какие у меня молодцы, все как на подбор"; бренц-бренц, начинается цирк, вот собачки, а вот дрессированные блохи, а вот слоны-эквилибристы, бренц-бренц. Если бы я так пищал, я бы курил все время, чтоб голос стал погуще, нельзя военному такой голос. Я его на ученьях не видел и даже представить не могу в окопах, а вот парад – это пожалуйста; „Третья колонна, равняйсь, кадеты, внимание, офицеры, свободней, не так напряженно, выправка, выправка где? Тверже шаг"; ах ты, гад, зато какую рожу скривил, когда началось с канатом. Говорят, министр весь вспотел, и все его спрашивал: „Они что, в своем уме?" Мы встали точно друг против друга, четвертый и пятый, а между нами футбольное поле. Ребята на трибунах так и ерзают, а псы таращатся, ничего не понимают; подождите минутку, разберетесь, что к чему. Уарина крутится, ноет: „Думаешь, осилите?" Ягуар говорит: „Не выиграем – год не давайте увольнительной!" Я, правда, так бы не сказал: у них тоже подобрались ничего лбы – Гамбарина, Веселый, Мясник – здоровые ребята. У меня уже заранее руки болели, так я нервничал. На трибунах кричат: „Ягуара вперед!", и еще: „Питон, вся надежда на тебя!" Наши, из первого, завели „ай-ай-ай-ай". Уарина смеялся, смеялся, а потом доперло, что мы хотим пятому всыпать, и пошел: „Гады, что делаете, тут генерал Мендоса, посланник, полковник, что делаете!" Слюной брызжет. А нам смех один. Полковник говорит: „Учтите, для каната нужна не только сила, нужна еще и сноровка, нужны ум, расчет, согласованные усилия", я от смеху чуть не лопнул. Ребята нам хлопали, прямо озверели, тут уж совсем бессердечным надо быть, чтоб не расчувствоваться. А пятый, все в черных майках, стоят ждут – им тоже хлопали. Лейтенант провел черту. Еще игры нет, а на местах орут – разрываются. „Четвертый! Четвертый!", „Во всех схватках пятый на лопатках! Хоть молитесь черту, победит четвертый".
Ягуар говорит: „Чего орешь? Береги силу". А я не могу, очень уж здорово: „Хоть молитесь черту, победит четвертый! У-ра, у-ра!" – „Так,– сказал Уарина, – начинаем. Что же, ребята, не посрамите чести курса", – не знал, дурак, что его ждет. „Бегом!" Ягуар впереди, давай, давай, давай, ату-ату, Уриосте, давай, давай, жми, Питон, Рохас, гони, Торрес, жарь, Риофрио, Пальяста, Пестана, Куевас, Сапата, не сдавать, умри – не уступи ни миллиметра. Вот трибуны, может, увидим близко Мен-досу, не забудьте поднять руки, когда Торрес скажет „три". Народу – ужас один, военных сколько, наверное, адъютанты министра, хотел бы я послов рассмотреть, ух и хлопают, а мы еще и не начинали. Так, теперь – на-ле-во, лейтенант сейчас даст канат, ой, Боже милостивый, хоть бы узлы были хорошие, ой, пятый какие рожи строит, не пугайте меня, помру. „Стой! У-ра-у-ра!" Тут Гамбарина подходит, лейтенант уже тянет канат, узлы считает, а он хоть бы хны, говорит нам: „Значит, на рожон лезете? Смотрите, как бы не пожалели…" – „Мать свою пугай, а не нас", – говорит Ягуар. „После поговорим", – отвечает Гамбарина. „Хватит шутить, – говорит лейтенант, – капитаны команд, сюда, стать в шеренгу, сейчас дам свисток, если кто переступит линию – даю сигнал отставить. Выигрывает тот, кто наберет на два очка больше. И не жаловаться, я человек справедливый". Разминочка, разминочка, попрыгаем; ч-черт, ребята орут „Питон", мало кто – „Ягуар", больше „Питон", и чего он ждет? Свистел бы скорей. „Приготовились, ребята, – говорит Ягуар. – Держись". А Гамбарина выпустил канат и нам показал кулак; они все нервничали, как тут не проиграть. Правда, очень ребята нас поддерживали, кричали, так что сразу силы прибавлялось. „Так, так, братцы, раз, два, три, сорвалось, ой, Господи, ой, Боженька, четыре, пять, канат как змея, так и знал, узлы маленькие, руки – пять, шесть – скользят, семь, ей-богу, продвигаемся – вспотел, как боров, девять, давай, давай, еще капельку, ребята, уф, уф, свисток, тьфу". Пятый верещит: „Нечестно, сеньор лейтенант", „Мы линию не переступали", а наши на местах повскакали, береты поснимали, ну и беретов! Что они кричат? „Питон"? Поют, ревут, орут, да здравствует Перу, смерть пятому курсу, не корчите вы такие рожи, а то лопну. У-ра, у-ра! „Отставить разговоры, – говорит лейтенант. – Один – ноль в пользу четвертого. Готовьтесь ко второму заходу". Да, наш четвертый орать умеет, вот это рев так рев, эй, Кава, дикарь, я тебя вижу, эй, Кудрявый, кричите, кричите, помогает, мускулы согреваются, ч-черт, течет, как из лейки, да не скользи ты, канат, – прямо змея. Лежи тихо, не кусайся, Худолайка. А хуже всего – ноги, скользят по траве, как по льду, того и гляди что-нибудь сломаешь, шея лопнет; кто отпустил? Крепче! Не сгибайся, нет, какой гад отпускает, держи его, змеюку, подумай о курсе, четыре, три, уф, а на местах что делается! А черт, Ягуар, перетянули, гады. Нелегко это им далось – стали на колени, чуть не крестом легли, отдуваются, пот с них так и льется. „Один – один, – говорит лейтенант, – и без истерики, что вы, бабы?" Тут они стали нас ругать, хотели ослабить боевой дух: „Чтоб вам сдохнуть!", „Душу вам вымотаем, как Бог свят!"; ну и мы не молчим: „Закройте хавальник, взгреем!" – „Кретины, – говорит лейтенант, – не видите – на трибунах слышно, вы мне еще за это заплатите!" А мы так и чешем, гады вы, так, так и так. На этот раз быстрей пошло, веселей, у всех чуть шеи не треснут, надулись, жилы синие, ухаем все вместе. Ребята орут: „Четвертый, четвертый, свисток дайте, у-ра!"