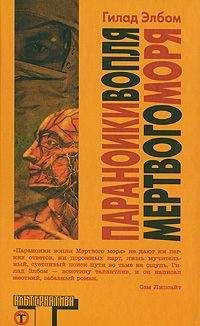— Да, в Вифлеем, и, кстати, надолго. Ну это было нормально. Обо мне хорошо заботились, обращались со мной, как с храбрым воином. Я им все время говорил, что вовсе не хочу сражаться за Палестину, но им было все равно. Все равно ко мне приходили важные дядьки из штаб-квартиры Освободительного движения и говорили: это поступок, который имеет значение.
— А что мама сказала?
— Она на меня злилась. И точно не считала меня героем.
— Почему?
— Она-то не хотела, чтобы я бросал камни. Она хотела, чтобы я учил иврит. Она говорила: нам, как притесняемому меньшинству, надо знать язык угнетателя. Она хотела, чтобы я научился водить.
— Научился?
— Да, но экзамен не сдал.
— А это когда было?
— Через несколько лет. Мне уже было восемнадцать или девятнадцать. После того, как я вернулся из России.
— А ты ездил в Россию?
— Да, на лечение.
— От этого ранения?
— Ага. Сначала в Вифлеем, потом в Москву.
Я никак не могу взять в толк — Ибрахим Ибрахим сам-то понимает, что он говорит, или нет? Допустим, поездка в Россию была на самом деле. Тогда какое отношение имеет его теперешнее состояние к травме головы? Он говорит, что всегда был депрессивным, даже до этого выстрела в голову, так что я ничего не понимаю.
— А мать с тобой не ездила в Россию?
— Заплатили только за одного человека.
— То есть?
— За меня, за кого же еще?
— Нет. Я в смысле — кто оплатил поездку?
— А. Не знаю. Какой-то Палестинский фонд.
— Ты чувствовал, что тебе оказана честь?
— Да нет. Честь, которую мне оказали, означала, что я разочаровал маму. Что еще хуже, я снова огорчил её, когда меня подстрелили во второй раз.
— Снова резиновые пули?
— Нет, на сей раз они были настоящие. Но это не самое худшее.
— А что было самое худшее?
— То, что меня не убили. А теперь, с твоего разрешения, я пойду спать.
Ибрахим Ибрахим встает, молча кивает мне на прощание — этакий полупоклон и полуулыбка — и ковыляет к себе. В столовой осталась только Ассада Бенедикт. Сидит себе за этим липким столом и дожевывает свой бисквит. Она смотрит на меня и слабо улыбается.
— Таблетка, мне доктор дала, — она помогает.
— Вот и хорошо, — говорю я. — Доедай сладкое и иди спать.
— Правда помогает, — говорит она. — Она сделала меня мертвой.
Я в труппе Иерусалимского Междисциплинарного Театра и играю Гамлета в новой постановке трагедии, и у нас репетиция, и у нас все идет гладко, — единственное, в чем я не уверен, так это в призраке: или он реален, или он — все-таки игра моего воображения, или еще какая-то фигня, — но тут группа других актеров устраивает мятеж. Они свергли директора, переделали всю сцену и раздают откопированные листы с изменениями в пьесе. Тут оказывается, что мой Гамлет вообще молчит. По новой версии диалогов, у меня нет ни строчки. Я схожу с ума от ярости. Я ору и ношусь по сцене, пиная стулья и разбивая стекла, но все это — лишь эпизод в одном из актов комедии, и теперь я не могу понять: мой ничего не говорящий Гамлет и мой припадок ярости — это настоящее или тоже часть представления?
А сейчас я в публике, и сижу рядом с мужем Кармель, но он религиозен, а у нас вечер пятницы, и когда пьеса закончится, уже темно, и это значит, что нам надо сейчас ехать домой и осквернить Субботу. Но он вроде бы не возражает, что кажется мне странным. После того, как он уходит, представление продолжается, и в зале ко мне присоединяется Кармель. Она садится рядом со мной, и к ней подходят несколько поклонников, учтивых и сексуальных, и просят её телефон, но ей это не интересно, и она показывает на меня и говорит: «Вот мой жених». Но когда я обнимаю её, чтобы добавить правдоподобности, она осаживает меня и дает понять, что я — всего лишь её прикрытие.
Потом к нам приближается старик с черной бородой. Он толкает перед собой маленькую тележку. Он продает большие стальные ножницы — такими можно, например, резать колючую проволоку.
— Почём? — спрашиваю я.
— По два шекеля, — отвечает он.
Это очень дешево, но у меня в бумажнике только долларовые банкноты, и я даю ему два доллара, но потом понимаю, что при нынешнем-то курсе это намного больше, чем два шекеля, и спрашиваю сдачу, но он кладет эти два доллара в коробку на тележке и уходит. Я догоняю его и хватаю коробку, чтобы забрать один доллар, но все купюры фальшивые. На некоторых вместо Джорджа Вашингтона — Эзра Паунд [14], на других — портрет Харпо Маркса, но я не могу найти ни одного настоящего доллара из тех, что я ему только что дал. Старик толкает свою тележку все быстрее, он выбегает из театра и скрывается в синагоге, что есть тут, поблизости, но когда я вбегаю туда, его уже нет. Там вокруг столика для кофе сидят несколько солдат и играют в нарды. Один из них говорит мне: «Слышишь этот гул? Он сводит мою жену с ума. Ты кого-нибудь клал в больницу?» И я отвечаю: «Нет, я работаю в больнице, но никого туда не клал. Я ухаживаю за теми, кто там уже есть». И он говорит: «Если ты родился с этим гулом, ты к нему привыкаешь. Если ты вырос у моря, шелест волн не беспокоит тебя».
И тут звонит телефон.
Чего ей от меня надо в такую рань? Пусть сработает автоответчик. Она вчера вечером не позвонила, так что я приехал домой, послушал пластинку «Войти в ад» [15] группы Celtic Frost и лег спать.
Я смотрю на часы. В общем-то, не так уж и рано, просто утро мрачное. И холодно. У меня в квартире всегда холодно.
Я еще некоторое время валяюсь в постели. По крыше барабанит дождь. Я представляю себе, что Кармель все-таки приходила ночью, и что она сейчас здесь, рядом со мной, просыпается и начинает одеваться. Босоножки на каблуках и коричневые брючки. Или почти прозрачное летнее платье, то, с подсолнухами и черепами. Или темно-красное бархатное платье, в котором она становится высокой и почти хрупкой. Или просто узкие джинсы и черные армейские ботинки.
Интересно, как бы она выглядела, будь она в армии. Готов спорить, она была бы очень хорошеньким солдатом. Форма шла бы ей. Намного больше, чем мне.
Я высокий и тощий, и в форме я вечно выглядел нелепо. Меня призвали в восемнадцать, сразу после школы, и через четыре недели после вводного курса меня направили в Академию Военной Разведки учить арабский язык. Вот что хорошо в армии — так это то, что тебя заставляют учить вражеский язык. Проблема только в том, что это длилось четыре года и три месяца, что немного утомительно. Особенно если принимать во внимание то, что Элимелех, наш ротный старшина, вечно грозился наказать меня за то, что я клал ноги на парту. Он говорил: парта — это стол, стол — это алтарь, класть на него ноги — святотатство.
Элимелех придирался ко всем, особенно к Тамар, пухлой девушке с красными глазами и большой грудью, которая работала на телетайпе. Мы с ней работали по ночам, делали большие перерывы на кофе и болтали о научной фантастике и любимых группах. Ей нравился «Долгий земной полдень» и Faith No More.
Как-то раз, часа в четыре утра, после целой ночи перевода и телекоммуникаций мы сделали перерыв, выпили кофе и отправились прогуляться по базе. За оружейным складом была маленькая конторка. Мы забрались туда, заперли дверь и принялись за дело, прямо под яркой лампой дневного света, опираясь на холодный железный стол. Она была бледная и уставшая, и её губы были сухими, почти потрескавшимися, но её кожа была мягкой и податливой, а на лице у неё застыло странное выражение, будто смесь страсти и сосредоточенности. Первый раз я видел, чтобы она не улыбалась. Мы долго целовались и ласкались, потом нас потянуло в сон, нам стало неинтересно, мы пошли назад в свои комнаты, выпили еще кофе и снова занялись работой. Мы потом еще говорили о книжках и пластинках, но больше не прикасались друг к другу.
Элимелех однажды поймал её на том, что она жевала резинку во время работы за телетайпом. Он поклялся, что добьется для нее минимум двух недель в военной тюрьме, но прежде чем он успел наложить дисциплинарное взыскание, дивизию компьютеризировали, Тамар перевели на другую базу, и с тех пор я её никогда не видел.
Мне было одиноко. Я помню, как сидел в автобусе каждый день (у меня тогда еще не было «Джасти»), и мой преданный плеер был у меня на коленях. Я слушал Slayer-овский альбом «Правь во крови» [16] и все думал, как ужасно будет, если я умру до того, как они запишут новый альбом. Жаль, я тогда не знал Кармель, она мне тогда была очень нужна. Хорошо бы, если она тогда сидела рядом со мной в автобусе. Карие с желтыми искорками глаза, сочные губы, рубашка и брюки цвета хаки и черные, тяжелые, сексуальные армейские ботинки.
Хорошо, наверное, если у тебя девушка — солдат. Вроде той, что убил Ибрахим Ибрахим.
Опять телефон. Сейчас я быстренько отвечу и расскажу вам все, что знаю про Ибрахим Ибрахима.