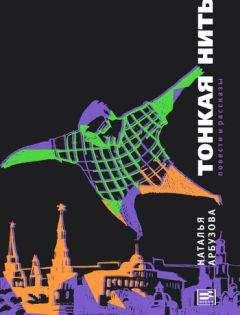76. Большому кораблю – большое и плаванье
Я научилась плавать без билета по северным рекам, прыгая на суденышко в деревянных шлюзах прямо через борт. Освоила я и морские каботажные рейсы. Слушай, мой изумленный читатель. Багажа с собой не бери вовсе, это не с руки. Судно стоит в порту часа четыре. Нейди ни в первый, ни в последний час, но иди в середине этого периода. Иди, грызи яблоко, ни один матрос на тебя не глядит. Сошел пассажир, купил яблок и возвращается в свою каюту. Билеты проверять будут через час-полтора у тех, кто пойдет косяком с багажом. Ночевать будешь на верхней палубе в шезлонге, в крайнем случае в шлюпке под брезентом, на спасжилетах. Днем берега не видно, одно море, даром что каботажное плаванье. Ты же знаешь, мой читатель, я скорпион, и стихия моя вода.
Это по-армянски алебарда. Армяне верят, что некий их соотечественник, присутствовавший при распятии Христа, прекратил его крестные муки алебардой, которую потом принес на родину. В честь сей святой алебарды высечен в скале храм под тем же именем. Я шла пешком по горной дороге в Гегард. Меня обогнала машина, называемая в просторечии козлом. В ней сидел отец с тремя сыновьями, сзади же блеял связанный баран. Семья ехала в почитаемый храм принести жертву в благодарность за благополучное возвращенье сына из армии. Вот такое там христианство с ветхозаветными пережитками. Барану предстояло быть зарезанным на жертвеннике. Кровью его жертвенник должен быть помазан. Мясо же следует зажарить поблизости и позвать случайного гостя, коим должна была послужить я. Семья подвезла меня до храма, но присутствовать при помазании жертвенника кровью мне не было дозволено – это мужской обряд. Меня послали посмотреть храм. Свою же обязанность есть жертвенную баранину я исполнила с честью, за что мне потом подкинули в сумку бутылку сладкого армянского вина с царевной Ануш на этикетке. То-то сумка моя отяжелела, когда я выходила из машины.
Представь себе, мой читатель, горную долину на Кавказе, поначалу широкую, покрытую вдоль реки лиственным лесом, где водятся зубры. Выше долина сужается, впереди видны горные пастбища, и летние хижины пастухов стоят кой-где под реликтовыми архызскими соснами. Лыжники самовольно селятся в них зимой. Пастухи прячут от них дверь и чугунную плиту с печки – кладут, уходя, в стороне от дома, и снег скрывает их. Но лыжники находят. Дверь навешивают, плиту вмазывают глиной, щели в стенах конопатят мхом. Теперь нужны дрова. В стороне лежит поваленная сосна, ствол чуть не метр диаметром. К ней ползут по снегу на животе, пилят по очереди первый кругляк, катят к хижине, колют. Горный ручей тоже надо искать – он каждый год меняет русло. Но его, причудника, находят и приносят ледяную воду. Купаются в пушистом снегу – он теплее. И начинается счастливая жизнь. Управляют несложное хозяйство – чистят картошку, моют посуду в ковбойках на проталине – солнце обжигает руки. Уходят на лыжах вверх по долине искать другие группы. Спрашивают в первой заселенной хижине: «Такой-то прошел на Дукку?» Прошел с группой, можно идти в гости. Возвращаются под яркими звездами. Сидят в натопленной хижине при свече и читают наизусть стихи.
Я выписываю у нефтяников плутовскую командировку в Баку и живу неделю в Загульбе на Апшероне. Каспий катается по плоскому глинистому ложу, таская длинные, острые, ни на что не похожие ракушки. У него два берега причудливого рисунка. Великий Дизайнер создал так. Первый берег базальтовый, черное кружево. По нему не идешь, а скачешь через гладкие провалы-каверны. Второй, подальше – невысокая стена известняковых утесов, белые скалы, наверху темные рощи инжира. Однако ж басурманы не дают мне спокойно любоваться пейзажем. Я бегаю от них по высокой узкой стене, они за мной двумя стаями с обеих сторон. Добегаю, не упав, до русского дома отдыха, спрыгиваю на его территорию и крещусь. Когда я уезжаю, они стоят заслоном и не дают мне сесть в автобус. Прорываюсь, собрав последние силы и подняв страшный крик.
По приезде в Москву еду в автобусе же в нефтяное министерство и вдруг чувствую страх. Подымаю голову – на меня пристально глядит явно азербайджанское лицо. Я задрожала как осиновый лист. Рядом проснулся пьяный рабочий. Он не оплошал спросонья, верно оценил ситуацию и высказался в единственно подходящих выражениях. Я почувствовала себя дома и в безопасности.
80. Брань на вороту не виснет
Видишь ли, сердешный друг читатель, я люблю сказанное к месту бранное слово и сама неплохо бранюсь, когда ситуация к тому обязывает.
Люблю подсесть подчас к старухам,
Смотреть на их простую ткань.
Люблю я слушать русским ухом
На сходках родственную брань.
Мало тебе? Слушай еще.
Велела наша барыня Гертруда Алексеевна —
Кто скажет слово крепкое, того нещадно драть.
……………………………………
А мужику не лаяться – едино что не жить.
Так вот, когда воля вышла,
Уж так-то мы ругалися, что поп Иван обиделся
За звоны колокольные, гудевшие в тот день.
Ну а что ж работа? На работе стоит «Урал», черт бы его побрал. Это ламповая вычислительная машина, рассевшаяся на весь зал. Велика Федура, да дура. На протирку контактов выписывается спирт, его потихоньку попивают. Когда у моих детей болят уши, материально ответственный Балясов отливает мне сто грамм, я расписываюсь в книге. Выпили всё – на нет и суда нет. Я иду с рублем в зубах и стаканом на угол к алкашам. Это слово ты, мой читатель, наверняка знаешь. Говорю им – на компресс детям. Мужики серьезно отливают мою законную треть, какой уж там смех. Но вот когда детям уже пятнадцать и они заядлые туристы, я иду на стройку менять две пары резиновых сапог 41-го размера на 43-й. Говорю – сыновья-близнецы растут. Мужики мою правду видят, и меняют, и бутылки не спрашивают. Но до этого еще надо дожить.
82. Давно, усталый раб, замыслил я побег
Я, мой читатель, подумываю оставить поле сраженья неприятелю – мою приданую комнату в коммуналке неродному мужу, и уйти в кооператив. Как видишь, желанный мой собеседник, я продолжаю ездить на своем коньке – свободомании. И кто сидит впереди? Дьявол, милый мой друг, как в той балладе Жуковского. Ради того бегаю весь день по урокам, и мне некогда не то что поесть, но и сделать дел более неотложных. Ты спросишь меня, мой отдаленный во времени и пространстве читатель, что такое кооператив? В 60-х годах началось строительство небольшого числа домов на деньги жаждущих жилья. В общей же государственной очереди люди ждали бесплатных квартир лет по двадцать. Я числилась на работе в жилищной очереди, вроде бы недлинной. Но она подвигалась столь странным образом, что в течение восьми лет я оказывалась все дальше от цели. Так что вот.
Ребята говорили: «Мама ходит рыть новую глубокую нору. Скоро будет нас туда перетаскивать». В квартире, пока без электричества, воды и газа, я ползаю по линолеуму, сбивая стамеской наляпанные слоновьи кучи засохшего цемента. Ни одна рама не закрывается толком, шпингалеты не входят куда нужно. Я подрабатываю все, как могу. Потом узнаю, что из четырехсот семей только я одна не предъявила претензий.
И вот въезжаем. Мужики, принанятые возле мебельного магазина, вносят наши скудные пожитки, крякая на всю договоренную сумму. Мы, говорят, только что из консерватории – рояль подымали. Нам весело. Электричества еще нет, мы бегаем друг за дружкой с зажженными свечами. Я поскользнулась на воске и сломала ключицу. Это ничего, ключица так хорошо закреплена, что заживает сама.
85. Обломки кораблекрушений, выброшенные на наш берег
Въезжает знаменитый федорниколаичев шкаф. За ним въезжает английский сундук со звоном, столик с качающимся зеркалом. Наконец, часы Нортон 18-го века, они приплыли еще на паруснике. У них дорогой косой срез красного дерева, называемый пламенем, серебряный циферблат, серебряный звон и три медных шпиля. Верхний даже не влезает под низкий потолок. Это все дедушкино, стояло в Сверчкове переулке. В сундук дети проводят электричество. Едва лишь дают свет, они закрываются там вдвоем, оставив узкую щель на щепочке-распорке, и читают книжки. У нас сразу же селятся сверчки. Они не только сверчат, но и громко шлепаются об линолеум, прыгая. Мы их отлавливаем и дарим в спичечных коробках друзьям на раззавод.
Мы ищем мастера наладить часы. Находим по сказке Федора Анисыча на Маросейке. Когда я вхожу к нему в дальнее помещенье, как раз зазвонили все старинные часы – кареты, яйца, пастухи с пастушками. Привезенные на такси после наладки часы наши нейдут. Федор Анисыч бранится по телефону. Говорит – небось, переводили стрелку через звон, не дали пробить. Мы божимся, де ни сном ни духом. Он приезжает, заехал не туда на Бутырский хутор, шел пешком через мост. Утирает лысину платком. Бросается к часам, видит – все в порядке: «Гребенка заскочила!» Мы втроем болтаем ногами на сундуке, он мигом поправляет гребенку и уходит, отдохнувший, прикоснувшись к любимому делу.