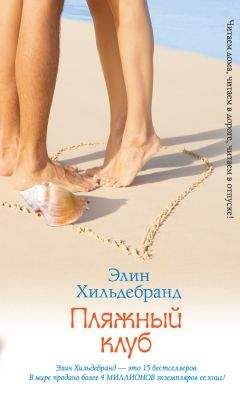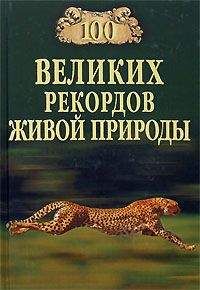А проснулась Маша обыкновенной, без всякого “первичного одичания”. Ее поглупение, видно, уменьшалось и увеличивалось в зависимости от близости (в том числе и временной) или удаленности от школы. В ход пошли их общие воспоминания. “Смотри, как… (она назвала раскапываемый город)!” – сказала Маша, показывая на льдины на реке, намерзшие кусками одна на другую, освещенные желтым вечерним солнцем.
Город был для Маши слишком крупным объектом. Она очень старалась его как следует рассмотреть, чтобы было что потом рассказывать о поездке, но у нее плохо получалось. Она быстро уставала, а в уличной толпе на уровне ее глаз оказывались куртки и пальто взрослых. Тогда Саша стал внимательнее выбирать места, более подходящие для ее детских возможностей: Петропавловку, парки, привез ее троллейбусом на Стрелку. Пошел тихий весенний снег, Маша глубоко вздохнула и сказала: “Как красиво”. Глубоко вздохнул и он. На этой каникульной неделе улучшилась погода, опять пошел смерзшийся на время похолодания лед, они с Машей кормили ярких уточек с моста на Фонтанке, помесили весеннюю слякоть на дорожках зоопарка. Маша прочитывала каждую табличку на клетках с животными и запомнила почти всех зверей, которых видела. Ее не смущал запах и тюремное положение зверей, ее подход был натуралистический. Саша повел ее в книжный и купил большой атлас животных. “Как ты догадался, что мне нужен такой?” – спросила она.
Для школьной солидности Маша отрастила длинные волосы. Они оба думали, что он не справится с ее причесыванием, и заранее договорились связывать волосы резинкой в хвост. Но Саша легко освоил технику плетения кос, закручивания из них узлов.
Два раза Саше пришлось взять Машу с собой в студию. Вела она себя тихо и послушно, присматривалась к нему во время работы: он делал постановочные фото к “психологическим” рубрикам и статье об офисных конфликтах. Как и тогда, когда он водил Машу на раскопки, нашлись люди, намечавшие Машину будущую карьеру, на этот раз – карьеру модели. Маша повертела головой из стороны в сторону и пересела на другой стул, туда, где ее было меньше видно. Снимая очередные туфли-юбки, Саша предложил дочери сделать несколько кадров самой. И у нее неплохо получилось. Саша “затерял” один ее снимок среди своих, предложенных в номер, ее снимок прошел. Соседи не проявлялись, Саша смотрел на них с благодарностью. Чуть больше, чем через неделю, они сели в поезд, идущий на юг.
По секрету от Машиной мамы он взял билеты на верхнюю и нижнюю полку вместо двух нижних. Его уговорила на это Маша, он согласился с условием, что на ночь постелет ей все-таки на нижней. Днем Маша наверху наслаждалась своим атласом животных, а он смотрел в окна с двух сторон вагона: то в одно, то в другое. В местах, которые они проезжали, было намного теплее, деревья начали уже наполняться каждое своим цветом после того, как всю зиму простояли одинаково черными. Поверхность земли, то ровная, то холмистая, тоже окрашивалась жухлой травой, глиной, разными оттенками песка, на полях – черным с пятнами снега. Возвращение цвета обнадеживало его. Он лег почитать и случайно уснул, но проснулся еще днем. Поезд стоял на неизвестной и, похоже, незапланированной станции. Лежа он хорошо видел крышу вокзала. На краю крыши сидели голуби, по одному они подходили к краю крыши и слетали с нее в небо. Было похоже на пляж. Он вспомнил про Машу, испугался, что не присматривал за ней, пока спал, встал посмотреть на нее. Маша тоже спала на верхней полке с раскрытым атласом на животе. “Видела бы ее мама”, – подумал Саша.
В родном городе было уже совсем тепло, жарко. Они стояли на платформе, как дураки, в зимних куртках, как бродяги, надевающие на себя в любую погоду всю имеющуюся одежду. По платформе к ним бежала, опаздывая, Машина мама.
Он провел несколько дней в квартире жены – его квартира сдавалась, в ней кто-то жил. Он был на подъеме из-за возможности побыть еще немного с Машей, от того, что вдыхал воздух, знакомый на вкус, слышал прибой. Сходил взглянуть на свой тополь. С улицы тополь был неузнаваем, как человек, которого вы никогда не видели со спины, скажем – диктор новостей. Саша знал тополь только в лицо, которое, по его представлениям, находилось напротив его окон, на уровне третьего этажа. Встреча не состоялась. Потом он уехал.
***
На работе он застал “реформы”. Руководство осознало, что работа с фотографами организована неправильно, не “по образцам”, то есть фотографы состоят в штате редакции, как это бывает в газетах, а глянец, он должен сотрудничать с фотоагентством, приглашая нужного фотографа для оформления номера. Но работой своих фотографов (их было уже трое) редакция была довольна, подходящее агентство искать поленились и открыли свое агентство, приняв туда на работу существующих трех фотографов, включая Сашу. Агентство вроде бы не имело отношения к редакции, но принадлежало владельцам издательства. Когда правильные вассальные отношения были установлены, выяснилось, что фотографы потеряли в зарплате за счет необходимо возникшей ставки директора агентства, но приобрели в статусе: текст, напечатанный на их визитках, предполагал теперь большее разнообразие заказов, признание за ними права на некие “свободные художества”. Такой поворот натолкнул Сашу на мысль стать на самом деле (ради Маши) фотографом. Он стал покупать профессиональные фотожурналы, оценивать качество опубликованных работ, рассылать свои работы устроителям фотовыставок. И попозже, примерно в мае, он принял участие в какой-то выставке в Варшаве. Сам туда не поехал, поленился съездить на родину, добыть визу, но ему прислали каталог, где были обозначены в мелких квадратиках его работы и напечатана его фамилия.
Ему, съездившему домой на юг, смешно было слышать слово “весна” по отношению к тому, что происходило на местных улицах. Это было скорее слово поддержки, которое горожане произносили в утешение себе и друг другу. Особенно усердствовали в ободряющих текстах телевизионщики, как им и положено: прогноз погоды включался в одно целое со всеми остальными неприятностями и неполадками в стране, по поводу которых телевидение выступало главным утешителем населения. Он запомнил один уличный опрос, показанный в конце местных новостей, в котором красивые девушки останавливались у микрофона и под сизым небом, на фоне, без единого листочка, деревьев говорили о том, как они рады весне и как у них все хорошо в личной жизни.
Весна, как он понимал ее, так и не наступила, но наступило лето, как его понимали здесь. Он, наконец, посмотрел на город в том виде, в каком его показывают туристам: приподнятый сантиметров на тридцать от земли, с катерами на реках, разнообразием очень свежей и крупной сирени у Казанского в зеленоватом, светлом, как и было обещано, почти до утра небе, поделенный на просторные комнаты улиц, вроде улицы Зодчего Росси, теснотой от приезжих, чуть убывающей к семи вечера, когда лучших из них (дорогих) развозят по концертам летних музыкальных фестивалей и на спектакли. Затем на несколько недель вернулась зима: снег не пошел, и листья не осыпались, хотя в наступившем освещении легко узнавался ноябрь, а только что выросшие листья выглядели готовыми опасть. Все без смущения снова переоделись в утепленные куртки. Потом резко, без постепенного потепления, случилась жара. “Жара” – это говорили местные, Саше жарко особенно не было, но противно было. В городе, жители которого не привыкли доносить свою мочу до сортиров, не должно быть жары. Вонь стояла везде, кроме находящегося под надзором Летнего сада. Дома заменой вони был звук. Из открытых окон соседей снизу целыми днями исходила восточная, без знаков препинания, музыка. Свои окна Саше пришлось закрыть. Он попробовал ходить на пляж на Каменный остров. Тут он получал острые впечатления путешественника: от ветра, хорошенько обдувающего пытающихся загорать, от ледяной воды, малиновых цветов шиповника, растущего вдоль пляжа. Наполнилась смыслом строчка из стихотворения: “…однажды мы лежали с ней на пляже и крошили шоколад”. Шоколад и вправду крошился, не таял, не вытекал из обертки на местных пляжах. Привычными были только проходящие справа по заливу корабли.
Возобновление попыток быть здесь, в городе, пешеходом опять провалилось. По городу физически невозможно отмахать столько, сколько легко проходишь за городом. От попыток городского туризма у Саши уставало все тело и болело наутро, как после тяжелого труда, появилась стабильная боль между лопатками. И потом, было обидно, что самая далекая городская прогулка не может перейти в загородную, что он особенно любил: идешь долго по городу, не замечаешь, как выходишь за город, идешь, не останавливаясь, дальше и т.д. Он опять отказался от бестранспортных передвижений, но стал в свободные дни осваивать загород, сначала парки, потом – побережье.
Получалось гулять у него чаще в выходные, общие со всеми остальными горожанами, из-за этого ему приходилось не оставлять свой пост наблюдателя человеческих особенностей, а он сам, особенно на время загородных поездок, оставил бы его с удовольствием. Он запомнил одно такое летнее парковое наблюдение. Парило перед грозой, поэтому многие гуляющие, не выдержав загоранья-плаванья, пеших прогулок и восхищения природой, отступили в тень, к скамейкам: на многих скамейках, мимо которых он проходил, кто-нибудь лежал и даже – спал. Один из таких лежащих, парень его возраста, его заинтересовал. Босые ноги парня были какими-то очень детскими, ступни и голени – полноватые, что ли, для взрослого, еще под парнем был постелен плед: странная, не мужская, предусмотрительность. Все это Саша сфотографировал угловым зрением и прошел мимо. На следующей скамейке впереди него раскинулись не закрытые задравшейся юбкой белые панталоны пожилой женщины. Женщина лежала на спине, подняв колени, панталонами к проходящим. Пока он подходил к ее скамейке, сзади он услышал крик парня: “Мама, уже пора вставать или нет?” – “Нет, еще не пора”, – ответила женщина. И, уже проходя мимо старухи, как оказалось, демонстрирующей не только панталоны, но и телесного цвета лифчик (среди пожилых женщин сильно убеждение, что купальные костюмы – это для молодых), он понял, что парень – больной, что уже много лет парень и его мать связаны между собой так же крепко, как тогда, когда ему было два, три года. В то время как другие женщины слышали крик “Мама, уже пора вставать?” после детского дневного сна три, четыре, ну, от силы – пять-шесть лет жизни их ребенка (он сам перестал спать днем очень рано, знал это потому, что мать продолжала сокрушаться по этому поводу, когда он был уже школьником), эта женщина слышит его уже около тридцати лет, это такая давнишняя привычка, и она в их жизни – навсегда, до ее смерти. И ему вдруг показалось, что это старуха виновата в болезни парня, что его болезнь рождена ее властью над ним, ее желанием иметь власть. Еще он подумал, что парень со своей скамейки видел только панталоны и кричал панталонам. Он знал, что несправедлив к женщине и ее горю, но она так спокойно раскинула свои панталоны, что он невольно остался при мнении о ней как о властной, равнодушной женщине, виновной в болезни сына, которого она уложила на скамейке, чтобы самой спокойно полежать в неглиже.