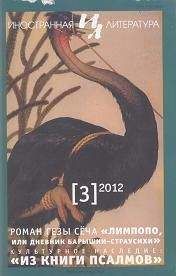Интриганов беспрерывно настраивал против меня Потемко (прозываемый также Сквалыгой) — седеющий и стареющий весьма отвратительный страус-старпер из бывших номенклатурщиков, который, как я говорила, еще перед первым побегом повел себя по отношению ко мне очень недружелюбно: то угрожал, то глумился. Вообще, этот Потемко даже в нашем страусином племени всегда казался нам чересчур длинноногим; возбужденный и от этого вечно размахивающий своими конечностями, он походил на оживший колодезный журавель. Насупив седые мохнатые брови, он говорил вроде бы разумно и убедительно, и только тот, кто слышал его не впервые, знал, что является зрителем хорошо отрепетированной комедии.
— Ну а если мы даже доберемся до Лимпопо, — подначивал нас этот интриган, — что мы будем там делать? — И, выдержав театральную паузу, продолжал: — Кто из нас знает хоть слово по-негритянски? И кто там поймет хоть одно наше слово? И что с нами будет? Вот когда вы поймете, как доверяться желторотым пигалицам… — И в виде последнего аргумента повторил единственную известную ему поговорку: — Заяц учит стрелять охотника!
Но на этот раз он обжегся, потому что я тоже за словом в карман не полезла.
— Добрый уксус рано созревает! — крикнула я Сквалыге, который от такой дерзости потерял дар речи, разинул клюв, но так и не выдавил из себя ни слова.
У этого Потемко было два вида оружия, которое он использовал в противостоянии с хозяевами фермы. Один из них — голодовка, точнее, угроза ее применения. И этот его шантаж в прежние времена, как рассказывают, неоднократно срабатывал. А еще говорят о его мафиозных связях, но что это значит, мне неизвестно.
Как бы то ни было, этот Потемко, который не голодал отродясь и четверти часа, был окружен ореолом страусиного правозащитника.
Более интересной была другая, прославившая его на всю округу стратегия выживания. Потемко развил в себе совершенно особое для нас, страусов, уникальное дарование. Он так виртуозно сливался с ландшафтом, так гениально мимикрировал подо все окружающее, что подивиться на него приползали даже хамелеоны из зоопарка. Сам он считал, что для нас это единственная возможность выжить. Мимикрия.
Одним словом, Потемко (он же Пишта Сквалыга — в том, какое из его двух имен настоящее, полной ясности нет, но никого из тех, кто знает его, это не удивляет) так ловко менял свой цвет, фигуру, размеры, голос, запах, жесты и даже взгляды, что при желании мог абсолютно сливаться с фоном. Стоило ему остановиться у забора, как все его существо становилось заборообразным — и не внешне только, но также и внутренне, иначе как объяснить ту достоверность и поистине легендарную убедительность, с которыми держался — или, скажем точнее, играл свою роль — Пишта Потемко Сквалыга.
И, конечно, когда он проходил мимо орехового дерева или клеток, то тоже менялся, подлаживаясь под них.
Но к Пиште Сквалыге, этому зловещему типу, нам придется вернуться чуть позже.
Кстати, о неграх.
Злыдень, бывший боксер с расплющенными ушами, уроженец Трансильвании, несколько лет назад был отправлен сторожем на свиноферму за избиение негра. Партком и суд обвинили его в расизме, апартеиде и разжигании межнациональной розни.
Злыдень, известный в спортивном мире под именем Мозеш Ковач Цунами, пытался, и достаточно ловко, строить свою защиту на том, что он-де простой боксер, задача которого, как любого спортсмена, состояла в том, чтобы любой ценой выиграть поединок. Ведь он же не виноват, что соперником оказался негр.
Разумеется, вина его была не в победе, а в том, что несчастного он уделал, как бог черепаху, да к тому же — спортсмена из дружественной страны, каковая сражается не на жизнь, а на смерть с проклятым империализмом. И пусть Злыдень радуется, что суд не инкриминирует ему связи с империалистами, а предлагает всего лишь чистосердечно признаться в расизме.
Какое-то время Злыдень пытался доказывать, что он, право слово, хотел просто драться и чернокожего бил вовсе не из-за его внешности. То есть бил его не как негра, а как спортсмена.
— То есть как это не как негра, — рявкнули на него, — а что у него на майке было написано?
На майке соперника, действительно, красовалось название его страны, а именно Нигер, так что Злыдню не оставалось ничего другого, как сказать, что на ринг его посылали махать кулаками, а не читать и он понятия не имел о том, что его соперник негр.
Ему, естественно, не поверили и даже высмеяли: как это он мог не заметить, что дерется с негром?
А он, кстати, и не хотел сказать, будто не заметил, что соперник его чернокожий. Просто ему не пришло и в голову видеть в чернокожем негра, то есть человека, которого следует линчевать, ненавидеть, как это обычно делают с неграми (секретарь парткома тут же начал что-то строчить в блокноте), всячески преследовать, а детей его не пускать в одну школу с нашими. Вот у наш, в Траншильвании, все проишходит наоборот, объяснял парткому Злыдень с расплющенными ушами, который, когда его достают, всегда шепелявит.
— Что значит наоборот? — вскинулся на него профсоюзный босс.
— А так, что здешь наших детей не пушкают, наоборот, в швои школы, а заштавляют учиться там, где их учат на неродном языке.
Злыдень навеки был отлучен от спорта.
И даже в корчме ему было запрещено драться. А поскольку все знали, что кулаки у него «опечатаны» (так они говорили), то любой мог ударить его или пнуть, не боясь ответа. Ему и тренироваться было запрещено под страхом быть арестованным даже за удар по мешку с картошкой в собственном погребе. Работать его определили в свинарник, и только позднее судьба над ним смилостивилась, и он стал охранником на нашей ферме.
Торопкой походкой мимо меня проскользнул Барнабаш.
— Ну что, встретился ты наконец с этим чудаком из пещеры? — крикнула я ему.
Он уставился на меня мутным взглядом.
— Это ты? Да нет… А который час?
— Половина четвертого. А почему не встретился?
— К сожалению, я ждал его не на той пограничной станции… точнее, он меня… мы друг друга не поняли. Вот незадача… Ты знаешь, когда-то мы с Каспаром, да, да, с Мельхиором да Бальтазаром…
Его взгляд устремился в какие-то дали.
— Извини, я спешу к умирающему, который хочет принять последнее причастие…
— А кто этот умирающий?
— Один углежог. Ты не знаешь его.
— И что с ним произошло?
— Пилой разрезало на две части.
— И он еще жив?
— С утра жив был. И просил, чтобы я поскорее его исповедал. У тебя закурить не найдется?
— Уважаемые пернатые, — обратилась я к соплеменникам, — давайте определяться. Кто мы есть и чего мы хотим от жизни?
Слова мои были встречены ошеломленным молчанием и почесыванием.
— Ну так вот, — продолжала я, — если говорить о способах выживания… а также о некоторых важных ролях… например, кто должен быть нашим вожаком… кто может привести наш отряд к успеху… Если все это рассмотреть, то решения могут быть разные. Я имею в виду вопрос, кем мы желаем быть. Возможности есть такие:
сбродом,
стадом,
табуном,
гуртом,
ордой,
стаей,
электоратом,
быдлом,
массой,
республикой,
фаланстером.
(Всей этой премудрости я набралась от Очкарика, который, как очумелый, зубрит материал для экзаменов и временами просит Злыдня проверить его. Причем готовится он сразу по двум предметам: по психологии пчел и социологии. Боюсь, что последний будет ему не по зубам и его завалят. Он путает Шлегеля с Гегелем и Георга Лукача с Джорджем Лукасом. А кроме того, не может, к примеру, сказать, в чем сущностные отличия между античным и современным рабством.)
Короче, я предложила, давайте обдумаем возможные варианты, решим, как лучше организовать жизнь нашего маленького коллектива, рассмотрим, какие плюсы и минусы имеет та или иная форма. А потом попросила их, взвесив все «за» и «против», принять решение — сама я в голосовании не участвовала, будучи счетной комиссией, — чем нам себя объявить. Вот результаты голосования:
«Королевская рыцарская академия страусов» — один голос. (Я думаю, это был голос Тарзана.)
«Каждый страус должен быть сам по себе» — один голос. (Скорее всего, предложение анархиста Володи.)
«Диктатура пролетариата» — два голоса.
«Неважно, чем себя объявить, главное, чтобы вожаком была Лимпопо!» — Догадываюсь, кто мог это предложить.
«Быдло» — тринадцать.
— Быдлом были и быдлом хотим остаться! — торжествующим тоном заявил под конец Пишта Потемко Сквалыга, хотя сам он, как классово-зрелая личность, по-моему, отдал голос за диктатуру пролетариата.