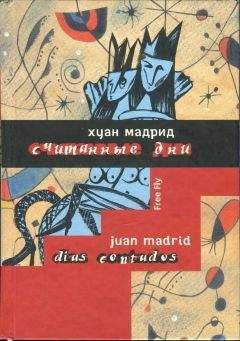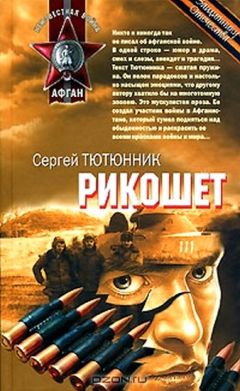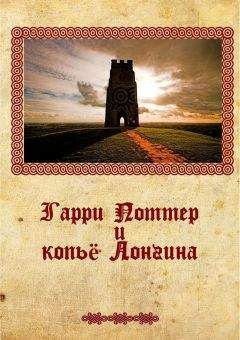А я все лечу и лечу.
Вижу мать и брата Паскуаля, потом Эмму и учительницу французского… Появляется отец, он улыбается… Господи, какая невыносимая боль в груди! Кто-то бьет меня по лицу и приговаривает: «Вставай, вставай, вставай…»
А я лечу дальше и не могу остановиться. Но я должен, должен. Меня крутит в воздухе. Голову еще раз пронзает ослепительная вспышка — дальше темнота.
— Выпей, — проговорил Угарте, поднося к его губам стакан воды. — Отколол ты номер, парень. Чуть не загнулся. Похоже, мой укольчик пришелся тебе не по вкусу — слишком чистый героин. Все ушли в бар Пако пить пиво.
Во рту чувствовалась сухость, точно его забили песком. Сердце колотилось в груди раненой птицей. Пустую комнату заливали потоки солнечных лучей. Линии потолка и стен смягчились, стали округлыми. Пришло ощущение огромного вселенского покоя.
«Так вот это как происходит!» — подумал он.
Вода вошла в горло, потом стала опускаться по пищеводу в желудок, и он все это видел, словно его тело стало вдруг прозрачным.
— Сигарету, — прохрипел он. — Дай мне сигарету, пожалуйста.
Он опять увидел себя под виадуком. Женщина, как в замедленной съемке, падала вниз. Оголенные ноги били по воздуху, скрюченные руки прижимали к телу младенца, к земле стремительно приближалось искаженное судорогой лицо с прямой линией рта. Потом глухой удар. Разбитая вдребезги голова. Раскиданные вокруг ошметки детского тельца. Крики людей. Единственный шанс в жизни — и он его упустил.
Сидевший рядом Угарте протягивал ему зажженную сигарету.
— …внесу первый взнос, пол-лимона, и мне продадут мотоцикл в кредит, хотя потом придется платить по пятьдесят кусков в месяц. Но это ничего, мне только потребуется поручительство. Ведь ты за меня поручишься, да, Антонио? Я буду давать тебе покататься, когда захочешь… да? А ты меня сфотографируешь за рулем… для матери, ладно?
Где-то все звонит и звонит телефон. Антонио видит себя и Чаро в огромном доме с садом и бассейном. Он, вальяжно развалившись в шезлонге, наблюдает за тем, как Чаро взбирается на трамплин, держа на руках какую-то девчушку. Телефон продолжает надоедливо звонить, и она, словно устав от этого звука, бросается вниз, в голубую толщу воды. По необъяснимой причине Антонио чувствует сильную тревогу, какое-то тоскливое предчувствие.
Потом понимает, у бассейна нет дна, и Чаро провалится в пустоту. Антонио силится встать и громко ее зовет. Вокруг ни души. Грудь теснит глубокая печаль.
Неожиданно она вновь появляется на трамплине, улыбается ему черным провалом рта и что-то говорит, а что — Антонио не понимает.
Он проснулся весь в холодном поту. На ночном столике заливался будильник. Чтобы остановить его назойливый призыв, он надавил на кнопку. Было четыре часа пополудни. Сквозь закрытое окно в комнату пробивалась тусклая полоса света.
Пласа за окном шумела на разные голоса. С террасы Пако доносился звон посуды, уличные автоматы грохотали музыкой, ревели моторы машин и галдели люди.
Сильно болела рука от укола. В том месте, где вводили иглу с героином, фиолетово набухла вена.
Он быстро принял душ, оделся и вышел на улицу, прихватив с собой диктофон и «Лейку». Потом наскоро выпил чашку кофе в баре Пако.
На Пласе Антонио купил две таблетки у первой попавшейся мулатки, по виду доминиканки. Девушка понятия не имела, как они назывались, но с жаром уверяла, что таблетки американские, а значит, хорошего качества. Голубые, приятные на ощупь, они стоили немного дороже, чем обычно, — пятьсот песет, и Антонио проглотил их без воды.
— Не пожалеешь, красавчик. Хаймиточки[24] отменные — вмиг разговорят кого угодно, понимаешь? Я не обманываю, клянусь матерью. Можешь потом проверить: я всегда стою тут, на Пласе.
Кафе «Луна» находилось на углу Садовой и Монтеро.
Помещение убирали два официанта. Один, толстый, молодой, с серьгой в ухе, вытряхивал пепельницы и расставлял по местам стулья. Другой, усатый дядька средних лет, мыл за стойкой стаканы.
Хозяин заведения зыркнул на Антонио маленькими голубыми глазками, юркими, словно ртутные шарики. На голове красовалась обширная лысина, а на теле — костюм а-ля Адольфо Домингес[25].
— Ты от Паскуаля? Фотограф? — спросил он.
— Да. Неужели не узнаешь?
— Вроде бы похож на брата, но, честно говоря, не припоминаю. Мы знакомы?
— Я бывал здесь довольно часто… Особенно несколько лет тому назад, где-то в восьмидесятых… Наведывался к вам вместе с Белен Саррагой и Эммой. Эмма — моя жена, точнее сказать, бывшая.
— Как же, как же… Конечно, Эмма, Белен… С тобой еще заходил тот парень, с радио, кажется его звали Тена, и Карминья Мартин Таите — писательница… Но с тех пор утекло много воды, верно?
— Прошло лет десять, не меньше.
— Я слышал, Белен вышла замуж за одного из Уэте, так?
— Совершенно верно. Они поженились, и Белен стала затворницей: почти никуда не выходит.
— Сейчас все засели по домам, никто никуда не ходит. Вот и твой брат тоже… А ведь, бывало, мы такие кутежи закатывали! Кстати, Паскуаль и я вместе состояли в партии[26]. Он тебе рассказывал?
— Само собой. Говорил, что вы друзья и все такое…
— И все-таки «Луна» остается на плаву, не пустеет. Набегает кое-какой народец, главным образом по пятницам. Иной раз закрываемся только в восемь утра… Понимаешь, друзья, приятели — никуда от них не денешься. Правда, Висенте?
Мывший стаканы официант молча кивнул головой. Хозяин продолжил:
— Конечно, все уже не то. Нет того духа, какой царил тут прежде. Хотя по пятницам у нас играют музыканты, поют испанские песни. Вернулись национальные ритмы и мелодии: я имею в виду куплеты, тонадильи[27] и так далее.
— Классная музыка! — ответил Антонио.
— Особенно хороши куплеты в стиле Кончи Пикер[28]. Нынче они в моде, — добавил официант за стойкой, но никто не обратил на него внимания.
— Сколько времени займет интервью? К шести я должен освободиться, у меня назначена встреча.
Антонио открыл «Лейку», вставил в нее пленку и заверил:
— Мы мигом. Ты, если не ошибаюсь, юрист?
— Был, причем раньше занимался трудовым правом, а теперь — бизнесом… У меня, как видишь, заведение… в основном для друзей, и еще наберется парочка-другая…
— Ресторан «Вилья»?
— Именно так, на паях с приятелем. И кое-что по мелочи. Я тебе так скажу: юристы старой закалки, если они специализировались на трудовых отношениях, прямо-таки созданы для бизнеса переходного периода[29]. Жаль, что ты не бываешь здесь по пятницам. Яблоку негде упасть.
— Прежде от посетителей всю неделю отбоя не было, — вмешался усатый. — Например, в восьмидесятые или еще раньше… Не протолкнуться. За стойкой работали три официанта, и те еле поспевали. Злачное было местечко, доложу я вам, злачное.
— Я помню, — ответил Антонио. — В каком году вы открылись?
— Да… Среди богемы мое заведение считалось одним из самых популярных в Мадриде, правда, вместе с барами квартала Маласанья. Точнее сказать, Маравильяс — вот правильное название. Именно так, Маравильяс, а не Маласанья. Сдается мне, что «Ла-Мануэла», «Кафе Руис», «Млечный Путь», «Пентаграмма» и «Выбери меня» появились несколько позже. А начинали мы. Я открылся незадолго до смерти Франко, летом семьдесят пятого.
— Было не протолкнуться, — бубнил свое официант за стойкой.
— Да, это уже походило на настоящие тусовки, если они вообще когда-нибудь имели место в Мадриде… Все валили на улицу и веселились до рассвета. И выпивка лилась рекой, и денежки текли, хотя по большей части — из кармана. А сейчас…
— А что происходит сейчас? Смотри, не запори мне будущую книгу. Если сейчас нет тусовок, что я в таком случае здесь делаю?
Хозяин усмехнулся сомкнутыми губами, издав звук, похожий на кудахтанье курицы. Потом бросил сигарету на пол и затоптал ее ногой.
— Франко умер шесть лет назад, дорогой ты мой. Тогда нам едва исполнилось тридцать, а у нас уже было прошлое: мы боролись против диктатуры. И чувствовали себя молодыми. А в сорок лет люди должны делать деньги. Кроме того, и здоровье поберечь совсем не лишнее. Заниматься гимнастикой, пить соки и вовремя ложиться спать. Здоровье стоит немалых денег.
— Теперь любителей погулять до рассвета сильно поубавилось, — вставил официант за стойкой. — Я сам вот уже больше месяца живу как по расписанию: рано ложусь и не шляюсь по ночам. Сильно устаю. Ничего не попишешь, старость — не радость!
— Со мной происходит то же самое. А раньше у меня день путался с ночью, — поддержал его Антонио.
— Да, заведений стало не в пример больше, чем при Франко, — вмешался в беседу официант с серьгой. Он уставился на затоптанную сигарету хозяина, но не делал попытки убрать ее. — Прежде найти место, где можно пропустить стаканчик, было большой проблемой. Когда Франко дал, что называется, дуба, мне только-только сравнялось десять лет, а в тринадцать я уже вовсю куролесил. После его смерти, что ни месяц, открывалось новое кафе или бар. Прямо вакханалия — хоть в стихах воспевай!