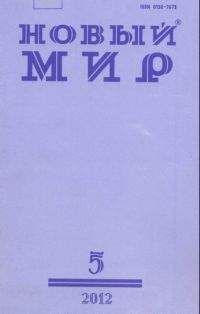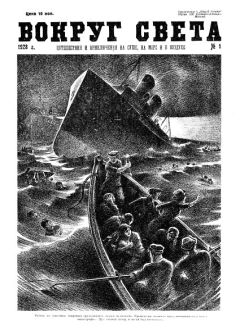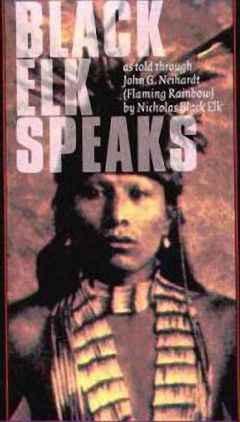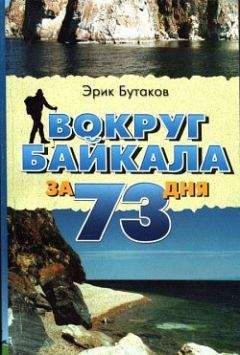Темно-золотая спинка, высокий радужный в точечку верхний плавник, брюшко светлое с золотыми продольными стёжками. Он все никак не сдавался, прыгал, Ефимов счищал с него прилипшие палочки и листья и любовался. Это была по-настоящему красивая рыба. Хариус хватал воздух ртом, раскрывал жабры… Ефимову стало жалко, и он тукнул его камнем по голове. Снова пустил муху в струю.
Хариусы брали верно, надежно засекались, он выудил пятерых, клевать перестало, поменял муху на верховую, ту, что не тонет, а изображает моль или поденку, и на нее поймал еще трех. Потом кто-то покрупнее, скорее всего ленок, согнул удочку так, что у Ивана сердце ушло в пятки, а тот неизвестный уверенно поволок леску под залом и оборвал… Иван перевязал все заново, не клевало, спустился ниже по течению на мелкий перекат и выдрал еще несколько.
Прогонистые, золоченой бронзы рыбины гибко лежали среди серых и белых мраморных камешков. Пойманные раньше потемнели и стали ярко-бронзовыми, а их брюшки — голубовато-белыми. Хариусы были крупные. Улыбаясь своему рыбацкому счастью, Ефимов собрал рыбу, положил в нос лодки и отчалил. Время было уже полпервого, а ему надо было пройти сегодня километров сорок.
Хариус — безусловно особенный. Он не живет там, где некрасиво. Один из первых исчезает из речки, если туда приходит цивилизация. Поэтому, если вы стоите на берегу реки, в которой водится хариус, глядите во все глаза вокруг! За это, видно, Ефимов и любил эту рыбу. Она была для него знаком!
Своего первого хариуса Ефимов поймал в семнадцать лет. Работал в геологической экспедиции в среднем течении Ангары. Их небольшой палаточный лагерек стоял на берегу лесной Тагары. Речка была маленькая, в самом широком месте не больше трех метров, бежала по глухой, вековечной тайге, часто исчезала с поверхности в карстовые полости, потом снова появлялась. Из-за высокого содержания железа, а их отряд по нему и работал, вода в речке была красно-коричневой. Прозрачная, правда. Там и компас дурил из-за железа: стоишь — вроде показывает на север, присаживаешься к земле — стрелка начинает крутиться в растерянности в разные стороны.
Иван, выросший на большой реке, сомневался, что в этом ручье могла быть рыба, но мужики уверяли, что обязательно есть, даже хариусы должны быть, и однажды Иван сделал удочку и пошел на рыбалку. Удобно было, речку почти в любом месте можно было перешагнуть, она петляла тайгой, бежала по ржаво-рыжим каменистым перекатикам, замирала над небольшими темными ямками в тени деревьев. В этих ямках исправно ловились гальяны — маленькие угольно-черные рыбки, похожие на бычков, Иван брезгливо выбрасывал их. Вскоре те несколько червяков, что удалось отыскать, кончились, рыбалка надоела, и он пошел обратно. На одном из перекатов что-то всплеснулось, серебристое как будто, Иван поймал на себе паута и, оторвав одно крыло, пустил по течению. Он закрутился по поверхности, заскакал по струйкам между камешков, а перед самым омутом исчез с небольшим всплеском.
Следующего паута Иван насадил на крючок.
Переходя от быстрины к быстрине, где, как оказалось, и держались хариусы, он ушел далеко вниз по течению, несколько раз терял речку и находил ее по гулу под землей, у него кончилась мазь, и зажирал гнус, кирзачи промокли… Он пропустил обед и вернулся в лагерь, когда все сидели за ужином и обсуждали, где его искать… В кармане голодного рыбака лежало шесть темненьких, измятых, в палец толщиной рыбок. Мужики смеялись, а Иван Ефимов был счастлив и думал, что они ему просто завидуют.
Лена шла прямо, по левому берегу рос красивый сосняк, Ефимов помнил, что где-то здесь было зимовье. Он зачалился, привязал лодку и, хватаясь за корни, влез на крутой сыпучий берег. Осмотрелся. Троп от реки не было, лес стоял нетронутый, он решил, что проплыл, что зимовье осталось выше по течению, и двинулся берегом назад. Тропа тянулась над обрывчиком, но не самым краем, а в двух-трех метрах, пряталась за кустами. Глухарь взлетел где-то неблизко, а все равно напугал громким хлопаньем среди таежного безмолвья. Ефимов прошел с полкилометра, расстегнулся, кепку засунул в карман. Зимовье как сквозь землю провалилось. Он углубился в лес и повернул обратно.
Следов человека, сопровождающих всякое зимовье, не было. Вернее, были, но очень старые — вот двумя ударами топора свалена сосна в руку толщиной. Зимой рубили, по снегу, пенек высокий остался. Но когда это было? Невозможно сказать. Он пихнул сапогом торчащий из мха стволик, тот легко упал и рассыпался на щепки, внутри была рыжая труха. Кто и когда срубил здесь высокую сосенку? В ста метрах от берега, в этом ничем не приметном месте тайги? Шест под капкан заготовил, или что-то починить понадобилось, а может, застрявшую в ветвях белку доставал. Тридцать лет назад? Или пятьдесят? Кто знает? Тайга долго помнит человека.
Избушка стояла ниже. Вокруг было порядочно вырублено и выпилено, старые, мятые ведра валялись, тазы дыроватые, ржавые банки из-под консервов… Коптильный сараюшка, в хлам разоренный местными косматыми хозяевами. Ефимов аккуратно заглянул в избушку, он почему-то всегда осторожно вел себя возле зимовеек. Дверь была вырвана и валялась на земле, внутри мишка тоже все осмотрел, печку переставил по-своему и вышел в окно. Нежилое было зимовье, стояло бы на берегу — кто-то чайку остановился сварить, кто-то переночевал, присматривали бы, поправляли, и все было бы иначе…
Ефимов вернулся к лодке. На зеленой мшистой полянке над рекой чернели остатки костерка. Два года назад они обедали здесь. Вид на Лену и на сопки за ней был отличный, ветерок тянул вдоль реки и разгонял комаров. Припекало, Маша сидела под старой сосной, чистила картошку, пацаны набрали сучков и шишек для костерка, и Петька, была его очередь, варил уху. Все сохранилось так хорошо, будто жгли этот костерок здесь неделю назад. Будто не было двух зим с сугробами, дождями и ветрами… К сосне была прислонена длинная тонкая палочка. Она была заточена с одной стороны, и Ефимов вспомнил, как Сашка от нечего делать тесал ее ножом, потом, лежа, накалывал ею шишки и подкладывал в огонь.
День был жаркий, ленивый, они наелись, и не хотелось никуда двигаться… Валялись на мху вокруг погасшего костра и шутили по поводу обжорства. Наконец кто-то что-то ляпнул, они расхохотались и, заражая друг друга, долго не могли остановиться. Ползали на коленках по поляне и умоляли прекратить…
Из-за утренней рыбалки времени на обед у Ефимова не было, но он достал все-таки из лодки буфет. Приятно было хоть чайку тут попить, о своих вспомнить.
Он разулся, подсушивал сапоги и стельки у огня, варил рис и пил чай с хлебом. Посередине полянки росла сосенка, которой тогда годик всего был, и Петруха с Саней огородили ее палочками, чтобы не растоптать случайно. Теперь ей исполнилось три, она поднялась почти на полметра, раскинув пушистые колючие лапки, а детский заборчик из палочек все стоял, защищая ее.
Когда Ефимов причалил, было тихо, солнце во все небо, ни тучки — теперь же, и часа не прошло, небо с севера и сопки закрыло тяжелой чернотой, время от времени налетали такие порывы, что Ефимов встал и перевязал лодку к большому дереву.
Погода портилась капитально, Ефимов обулся, достал из лодки непромокаемые штаны и куртку. Наверху почти все заволокло, временами только, как издевательство, меж туч пробивалось нехорошее, строгое и чужое солнце. Ветер гнал волны по плесу, поднимал вороха листьев с косы, и они летели через реку, крутились в вихрях, обгоняя друг друга, и взвивались высоко над лесом. Особенно доставалось другому берегу. Большие деревья раскачивало, молодые елки и сосенки загибало вдоль опушки.
У Ефимова внизу продувало не так сильно, но над головой нехорошо, вразнобой гнулись и скрипели сосны, ветки летели вниз. Рис плохо кипел, огонь сдувало, Иван затаптывал разлетающиеся по мху искры… Вдруг сзади зашумело, захрустело, Ефимов обернулся — высокая сосна падала неподалеку, круша все, что поменьше, выворотень с треском встал из земли и поднял облако пыли. Иван хотел пойти посмотреть на только что вывернутые корни, но вместо этого взял ложку и в очередной раз попробовал рис — он был еще сырой.
Лодка стояла под обрывом, чалка была натянута, тент, закрывающий вещи, временами начинал отчаянно хлопать по борту. Плыть было опасно. Ефимов поглядывал на почти черное, с седыми прядями небо и думал, не надо ли вытащить все на берег и не устроиться ли, пока все сухое, в зимовье. Он не очень понимал, куда вся эта круговерть повернет.
Но вскоре ветер стал слабеть, только порывами уже налетал, потом совсем стих, и все замерло. Лист не шелохнулся нигде, штормовой гул удалялся вниз по Лене. Ефимов встал, озадаченно озираясь, собрал сухих веток, наломанных ветром, и подложил в почти погасший костер. Кашу попробовал и замер с ложкой в руках. Со стороны зимовья из глубины тайги шел большой снег. Все седело и исчезало на глазах. Рябая белесая завеса приблизилась с тихим шелестом, прошла через Ивана и нависла над рекой. Большие хлопья падали медленно, их было так много, что другого берега не стало видно. Такая тишина наступила в природе, что он, завороженный, сел на буфет и забыл про свою кашу. Их было много, больших и маленьких, очень разных, Иван ловил взглядом одну, чем-нибудь особенную, и провожал до земли. Снежинка была красива, пока летела.