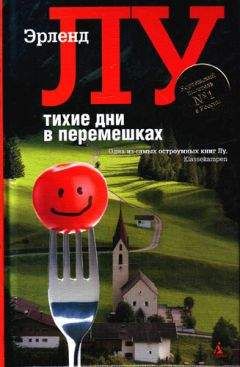Но я и правда думаю.
Нет, это неправда.
Правда.
Покажи-ка, много ли ты написал!
Что?
Покажи, что ты написал за время отпуска!
Но...
Никаких «но»!
Я написал немного.
Покажи!
Я много думаю. Потом проверяю свои догадки. И одну-другую из них записываю, иногда некую более общую идею. В театре я работаю с чужими текстами, поэтому мне редко удается подумать о своем, но здесь я это делаю. Я думаю о своей пьесе все время, целые дни. Например, пока мы не начали этот разговор, или, вернее, дискуссию, или фиг его знает что, я думал... вот о чем я, по-твоему, думал?
О своей пьесе?
Ну конечно. Сама видишь.
Покажи, что ты написал!
Что значит «Россия»?
Это записи для памяти.
Вижу. Но Россия при чем?
Что означает эта запись?
Да.
Вряд ли я сумею объяснить.
А ты постарайся.
Она ничего не означает.
Ничего?
Нет.
А зачем ты ее сделал?
Не знаю. Происки внутреннего голоса.
И как ты собираешься ее использовать?
Посмотрим. Возможно, она разбавится еще чем-то и превратится в стоящую идею.
В театр?
Хотелось бы.
А наци-китч?
Нацистский китч. Который здесь кругом. В доме Бадеров, куда ни плюнь, попадешь в него.
То есть ты считаешь Бадеров нацистами?
Нет.
Хотя наци-китчем увлекаются?
Да... хотя нет. Они им обзаводятся.
Но просто как китчем?
Да.
Не зная, что это китч нацистский?
Я думаю, в глубине души они об этом догадываются.
Ты написал «РЕМОНТИРОВАТЬ» большими буквами.
Вижу.
А потом подчеркнул и провел стрелку к другому слову. Не могу разобрать, что написано — климат, Китай.
Китай.
Так получается «РЕМОНТИРОВАТЬ КИТАЙ»?
Да.
А это что?
Костюм.
Костюм?
Да.
Я думаю, Россия — это зашифрованная Найджела.
Чего?
В ней столько же букв, сколько в России.
Нина, поосторожнее, тебя заносит.
Не заговаривай мне зубы. В словах «Россия» и «Найджела» по шесть букв. Как ты можешь это объяснить? Я вся внимание.
В них разное количество букв. В России шесть, а в Найджеле восемь.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Ладно.
Ты думаешь, меня все время тянет писать тайком слово «Найджела»?
Думаю, да. Так «Россия» точно не шифр?
Я не пишу шифровок. Ку-ку.
Не говори «ку-ку».
И это все, что ты написал за две недели?
Но это лишь видимая часть айсберга. А под ней многие кубометры мыслей, не видных невооруженным взглядом.
Маловато будет, Телеман.
Это театр.
Это ноль с палочкой, Телеман.
Ты говоришь о вещах, о которых не имеешь понятия. Это семя для произрастания пьесы. Субстанция, из которой растет театр.
Это ничего, Телеман, ни-че-го.
Это — театр.
Нет.
Ты просто не понимаешь, что такое театр. Нина, ты не сумела бы узнать в театре театр, даже если б он танцевал перед тобой голяком и орал в рупор, что он театр.
Телеман, у меня на тебя аллергия.
Ты ничего не смыслишь в театре.
У меня аллергия. Вот, смотри — я покрываюсь сыпью, когда ты говоришь.
Ты ничего не смыслишь в театре.
У меня на него аллергия.
Папа?
Да?
Если б мы были слоны, нас было бы пять слонов.
Верно.
Прикольно об этом думать, скажи?
Да уж.
Нет, ты представь, представь!
Хорошо, Бертольд. Здорово!
Бадер ест яйца только от тех кур, которые видят снег в горах.
Правда?
Шнеебергские яйца.
Понятно.
Занятно, скажи?
Скажу.
И мило?
Безусловно. И не заняться ли нам сексом?
Не сейчас.
В другой раз?
Да.
Ты пойдешь на Цугшпитце?
Опять?
Хейди немного куксится, что мы сходили без нее, поэтому я хочу прогуляться туда с ними троими. И еще с Бадером.
И Бадер с вами?
Да.
Я, пожалуй, останусь.
Понятно.
Побуду здесь, покурю, подумаю о театре.
Ну-ну.
Едва за Ниной с детьми захлопывается дверь, начинается Телеманово время. Он берет красное вино, блокнот и запирается в туалете думать о театре. На заднем плане жужжит Нинина щетка. Это надо записать. Ну ни фига себе. Ладно-ладно, Нина, ты еще увидишь, кто тут не умеет делать записи. Как она вообще себе позволяет судить о его записях. Что они значат. Много их или мало. Телемана разбирает смех. Тоже мне, наглая наглость. Наглая. Наглость.
Телеман, ты здесь?
Что?
Открой скорее.
Я думал, вы ушли.
Мы ушли, но Бертольду надо в туалет!
Понятно.
Выходишь?
Нет.
Почему нет?
Потому что я сам сижу в туалете.
Ты скоро, да?
Нет.
А что это за звук у тебя?
Никакого звука.
Что ты сказал?
Здесь нет никакого звука!
Есть, я слышу!
Нет!
Это часом не моя зубная щетка?
Нет!
А я думаю, что это моя щетка. Впусти меня!
Нет.
Впусти меня!
Это у тебя в голове жужжит.
Что?
Обострение твоей аллергии на меня. Головожужжение.
Бертольду надо в туалет!
Поищите другой.
Что ты сказал?!
Поищите другой туалет.
Господи Иисусе. Ни малейшего уважения к Телеманову времени. Хоть ты прячься в туалет, хоть нет. Куда катится эта страна, думает Телеман. Куда. Катится. Эта. Страна. Он записывает все слова, смотрит на них и видит, что слова хороши. Он нащупал что-то настоящее, еще немного, и он приблизится к Театру. Да, но что они значат? Говоря «страна», он не имеет в виду Германию. И Норвегию тоже. Он имеет в виду семью, вернее, ситуацию, а точнее, состояние, в котором он лично находится. И в котором находится театр. Включая театр внутри него. Театр в нем? Это уже на что-то похоже. Но куда катится эта страна? Это название? У нас теперь есть название? Телеман стискивает блокнот трясущимися руками. Вот он, театр. Страна, которая не страна, но среднее между человеком и состоянием. Это почти наверняка театр.
Чтоб ты знал — Бертольд надул в штаны.
Что?
Я хотела сообщить тебе, что Бертольд описался, не успев добежать до туалета Бадера. Большое спасибо.
Не стоит благодарностей. Хорошей прогулки!
Господи, стоит ли удивляться, что театр мельчает и вырождается? Больше поражает, что в таких условиях что-то достойное изредка все же прорывается на сцену. Хотя — ничто не должно даваться легко. Театр призван делать больно. В первую очередь — больно. Причем это касается всех: драматурга, режиссера и зрителя. Если хоть на одном этапе театр становится приятным делом, это уже не театр. А всего лишь постановка для сцены. Вам было больно? Вот ключевой вопрос ко всем, выходящим из зала. Театры должны взять за правило нанимать людей, которые после спектакля стояли бы у дверей и задавали этот вопрос всем подряд зрителям. А потом мутузили их. Так бы отфильтровывалась пена, те, кто ходит в театр выпить белого вина и прогулять шубу из чернобурки. Долой таких!
Щетка жужжит. Телеман вдавливает шарик ручки в лист блокнота. Телеман боится, что Нина опять вернется. Он смотрит на щель под дверью, он делает глоток, прислушивается, нет, вроде ничего, смотрит в блокнот, он ждет Музу. Идут ли уже импульсы вниз, от нужных центров в мозгу к пальцам руки? Вроде бы начинается, думает Телеман. Судя по всему, из-под ручки сейчас полезут буквы. Но какие и в каком порядке? Любой придурок умеет писать буквы, вопрос: какие и в какой последовательности? Телеман едва не касается щекой бумаги, «на-старт-внимание-марш» говорит что-то внутри него, шарик шариковой ручки вращается, Телеман пишет. Пишет!!! Сцена гола и пуста, пишет он. Освещенная только свисающей с потолка лампочкой. Правильно! Но сцена не совершенно пуста. На ней стоит кухонный гарнитур, пишет Телеман. Сцена практически пуста, если не считать кухонного гарнитура, вернее говоря, кухонного островка. И свисающей с потолка лампочки. Это все. На сцену выходит женщина. Она блондинка? Брюнетка? Черноволосая женщина, пишет Телеман. Крупного сложения. Она в одежде? Телеман задумывается. В одежде? Без одежды? Что больше, так сказать, имманентно сущности театра, его истинному «я»? Ответ посылается Телеману в виде озарения, в виде мига выверенного безупречного баланса, мига, в котором Телеман и театр суть не две субстанции, а одно целое: НА ЖЕНЩИНЕ НЕТ ОДЕЖДЫ. Иначе не может быть. Телеман чувствует, что нащупывает что-то подлинное. Возможно, в первый раз за все годы в театре. Женщина нага, она откупоривает бутылку вина и наливает себе бокал. Делает глоток. И принимается шарить на полках. Она гремит посудой, что-то ищет, встает на четвереньки, стараясь заглянуть вглубь шкафа, куда запропастился чертов противень? КУДА? Она тянется, напрягает спину, извивается, тянется, тянется, наконец достает, вытаскивает, ставит на столешницу, пусть противень стоит далеко, на другом конце столешницы, женщина почти распластывается на столе, привстает на цыпочки, еще чуть-чуть, ну вот, теперь хорошо, здесь противень отлично встанет, пишет Телеман. А женщина слезает со стола, ей нужна миска, зеленая пластмассовая миска, она должна там стоять вместе с зеленым же половником, теперь она наклоняется, чтобы вытащить с нижней полки холодильника шоколадную массу, она уже остыла, но не застыла и все еще податлива, лепится, но не течет, а лишь медленно и степенно ползет вниз, как ледник, хотя все же чуть быстрее, пишет Телеман, она снова тянется, ой, как же глубоко в холодильник засунули шоколадную массу, она почти дотянулась до нее, подцепила, вооот так, вынула, поставила на стол. Теперь ей нужно что-то другое, она ищет на полках и в ящиках, наклоняется, тянется, вертится, все без толку. Что же она потеряла? Она в растерянности. Она делает глоток вина. На лице написано недоумение, пишет Телеман. Стоп — это уже не театр. Она просто стоит. Так дело не пойдет. Что-то должно случиться. Кто-то должен выйти на сцену. Выходит мужчина!!! На сцену выходит мужчина. Кто он такой? Он кого-то напоминает. Ой, он похож на Телемана. Он очень на него похож. Просто одно лицо. Он одет или раздет? Телеман смущен. Мужчина одет, пишет Телеман. На нем трусы. Дорогое стильное белье. А больше ничего на нем нет.