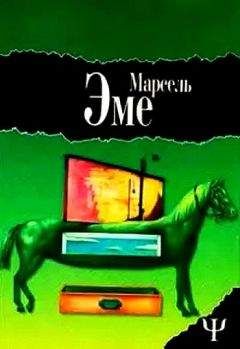Но фотография достигнет и Лубянки. Москва всех однокурсников Яши расспросит, проведет более тщательное, чем в США, расследование, и личность дамы в фойе “Современника” установит. Про истинную роль Яши знали немногие и очень неразговорчивые люди, подкрепить же роль могут только одним способом — обвинением Маргариты в связи с иностранным агентом.
Через полтора месяца я показал вахтерше только что выданный пропуск и пошел вкалывать в 19-ю лабораторию, где меня встретили неласково, кто-то распространил слух, что разработчик постоянно сдыхающего сервоусилителя — это я. Опытному производству при НИИ навязали этот усилитель, нужен был человек, хорошо его знающий, и человека этого сам бог велел посадить на участок опытного производства — браковать стервоусилители и безропотно не получать премий: разработка считалась выкидышем, обрекалась на помойку.
Ходить в ЛТИ здесь нужды не было, Маргару видел издалека. А она — все то же величие высоконравственной руководительницы, та же поступь королевы-матери. Однажды услышал угрозу, подчиненному инженеру она процедила брезгливо: “Что ж, приглашу вас на бюро…”
Наконец, случилось то, чего она по бабской дурости не предвидела, о чем давно надо было сказать ей, но по той же дурости на все мои предупреждения она ответила бы презрительным искривлением тонких губ, когда-то прельстивших меня.
Вдруг в столовой и у проходной на доске объявлений аршинными буквами: общее собрание 7-го отдела, приглашаются все желающие, повестка дня “Персональное дело М.А.Васильевой”, Маргары, значит. О том, что М.А.Васильева коммунистка, — не упомянуто.
Так! Дождалась!
Часов около трех дня человек сто заполнили партер институтского клуба, собрание не партийное и не профсоюзное, устроители из КГБ рассчитывали на широкую огласку, сам клуб — за проходной, местные алкаши грелись у батарей в предбаннике. На сцене длинный стол, покрытый зеленым сукном, на трибуне председатель профкома, Маргарита Алексеевна Васильева сидела отдельно, ей поставили стул слева от трибуны.
— С глубокой болью вынужден я сказать, что…
Так почти по-прокурорски приступил к делу председатель. А дело такое, продолжал он смешивать боль, горечь, возмущение и просьбу о снисхождении. Дело такое: наш сотрудник — ведущий инженер Васильева вступила в отношения с агентом американской разведки, что могло привести к разглашению государственной тайны, но не произошло, к счастью, не произошло, чему способствовала бдительность наших чекистов…
Последовали заслуги Васильевой М.А. перед отделом и всем советским обществом: красный диплом, грамотный специалист, инженер — старший инженер — ведущий инженер — секретарь партгруппы. Незамужняя.
— Так как мы будем решать вопрос о наказании ведущего инженера Васильевой? — Тон председателя стал игривым. — Послушаем ее или сразу спросим строго? Порицать будем?
Времена наступили не злобные, да и председатель странно вел себя, будто ведущий инженер Васильева не с американским шпионом спуталась, а в ЛТИ позволила советскому завлабу, неженатому и беспартийному, полапать себя. Почему так аляповато, будто понарошку все происходило, знали, пожалуй, только двое: Маргара и я.
— Вопросы есть?
А как же иначе, любопытных в таких делах всегда полно. Где познакомилась, когда, о чем говорили, чем агент интересовался, как охмурял и до чего отношения дошли, почему не сигнализировала органам и так далее.
Отвечала спокойно и тихо. Познакомилась со шпионом у метро “Белорусская”, американец коварно спросил, где остановка троллейбуса 18-го маршрута. Не раз ходили в парк культуры, были и у Любимова, а как иначе, ведь, сами понимаете, без помощи иностранцев в Театр на Таганке не попасть…
— Что свидетельствует о близости режиссера театра к американской разведке, — тут же ввернул какой-то остряк.
Время и впрямь не злобным было, посмеялись, а потом кто-то напрямик спросил: переспала или нет?
Тихо, очень тихо и незаметно перебрался я в первые ряды, полюбоваться унижением Маргары, но и посочувствовать ей, поскорбить о тяжкой доле старшей сестры — нет, не кончатся для нее тяжкие времена, не перестанут быть злобными… Похудела она, чуть осунулась, ноги задвинула под стул, руки сложила на животе, поджалась, локти стиснуты ладошками.
Вопрос повторили: спала или нет?
Сказала бы “нет” — и можно расходиться, народ знал: все собрания, партийные или общие, по одному шаблону, здесь свои тонкости и условности. Никто б, конечно, не поверил, но таковы уж правила социалистического и партийного этикета.
Она уже и губы сложила для “нет”, но тут глаза ее нашли меня. И она начала медленно подниматься.
Зал мгновенно притих.
— Да! — произнесла она с отчаянием. — Обольстил! Охмурил! В театры водил! Им, иностранцам, многое позволено, билеты куда угодно без очереди. Под луной на скамейке в любви объяснялся!
Стул полетел, она стояла, возвышаясь над президиумом, над залом. Сделала рубящий жест рукой, и зал начал медленно пустеть. По голосу, по позе ее общественность стала понимать: дело-то — с тухлятинкой, какая-то правда есть в том, что говорится со сцены, и правда ни с кем не согласована, правду опасно знать, и лучше, выгоднее держаться от нее, правды, и Маргариты Васильевой — подальше.
— Черт бы его побрал! — Она очки надела, чтоб лучше рассмотреть меня. — В какую-то квартиру привел, на Масловке, и там же рухнул на колени, слезами обливался. Умолял! Отдаться! Я, мол, еще не испытывал партийного женского тела.
Говорила — а люди убывали и убывали. А я продолжал сидеть. На меня смотрела она, и, пожалуй, не разобрать уже, злоба ли звучала, радость или еще что-то, общему собранию не доступное. Мне же было слышать ее — горько-радостно.
— Любопытство или что было во мне — да не вспомню! И ведь получил свое и — прощай, дорогая Маргарита! А я не знала, что он американский агент, и страдала. Сволочь.
Оглянулся я — а кругом никого, и президиум поредел. Поднялся и — поскорее к выходу, к выходу; еще минута — и на колени перед Маргарой упаду. И упал бы, не восседай на сцене неизменно злобные члены президиума.
Но спектакль кончился, занавес опущен, начиналась жизнь, которую на сцене не увидишь, потому что никто не сочинит пьесу про очереди на улучшение жилплощади, некому рассказать о сыне миллионера, который ныне мечется на подмостках чужого театра, и только я вспомню о сестрах с Беговой, о том, как они любили и страдали, и будут они жить и жить, не ведая о Диане, которая когда-нибудь да прилетит в Москву, найдет меня, в Некрасовку не заходя, расцелует и пропадет. Другие времена настанут, цветы положу на могилу уборщицы, и произойдет еще много чего интересного — и для меня и для Ани, если мы когда-нибудь встретимся…
Кстати: “Осудить за потерю бдительности” — так решило собрание. Без голосования.