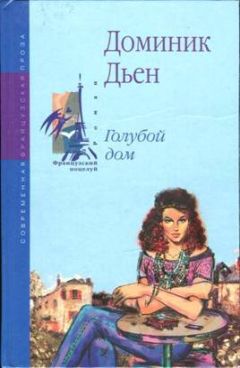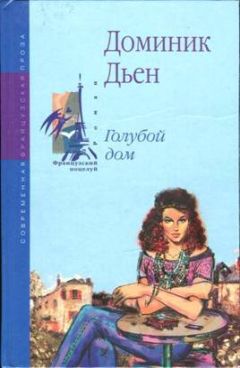Мама давала мне уроки сольфеджио и игры на пианино. Особых талантов у меня не было, но я восхищалась, слушая, как она играет. Возможно, именно это и придавало мне смелости.
У меня была тетрадь для набросков. Мама предлагала мне темы, а я рисовала. Чаще всего это были букеты цветов. Роз или лилий. Иногда я рисовала яблоко, которое мама клала передо мной на стол. Но мечтала о чем-то более серьезном.
Знаешь, когда в мою жизнь вошла живопись? Очень рано — мне едва исполнилось восемь лет. Помню, как будто все происходило вчера. Родители отвезли меня в Муних, посмотреть на первую выставку нацистского искусства. Дом немецкого искусства, недавно торжественно открытый Гитлером, представлял собой громадное здание. Стояло лето, и было очень жарко. На стенах висели сотни картин. Отец держал меня за руку. Мать приходила в восторг от каждой картины. Я не осмеливалась признаться, что мне скучно. В одном из городских музеев параллельно проходила организованная Геббельсом выставка так называемого дегенеративного искусства. Она должна была показать, куда скатился бы немецкий народ, если бы Гитлер его не спас. Мама захотела туда пойти. Мне казалось, что это правильно — выставлять напоказ уродство, чтобы все могли его критиковать и не поддаваться ему. Тот музей был небольшим. Стоял уже вечер, но толпа посетителей не становилась меньше.
Только представь себе, Майя, что я испытала после скучного, безликого нацистского искусства, стоя перед картинами Эгона Шиле, Кокошки и Шагала! Эти цвета, глубокие и сумрачные, эти выразительные, искаженные лица… Я видела тревогу и печаль, выросшие из любви и нежности! И эти произведения искусства, исполненные душевной глубины и поэзии, называли упадническими!.. Как я полюбила с того дня это слово! У меня было ощущение, что я падаю в бесконечную глубокую пропасть… Я была потрясена! Многие годы спустя мне по-прежнему снилась эта призрачная вселенная, эти портреты человеческих душ… Они были моими музами-вдохновительницами. Мне было восемь лет, Майя, и мне еще долго пришлось рисовать розы, лилии и яблоки размытой акварелью, тогда как в глубине души я мечтала о тюбиках с яркими красками, которые можно щедро выдавливать и смешивать цвета, создавая все новые и новые оттенки…
Так я впервые узнала, что такое страсть. В твоей жизни есть что-нибудь, что когда-то давно потрясло тебя настолько, что с тех пор ты не можешь без этого жить? Должно быть, для тебя это дети… Они — твое творение. Но со временем это творение ускользает. Тогда как в искусстве твои создания всегда с тобой… На чем я остановилась? Не хочешь виски? Нет? Тогда немного портвейна? У меня есть очень хороший портвейн, посмотри там, в буфете, на нижней полке…
Снаружи хлестал проливной дождь. Мощные потоки воды, казалось, должны очистить землю от крови многовековых преступлений. Поставив на стол бутылку портвейна, Майя испытала мимолетное чувство, что времени больше нет, ибо память безвременна. Она взяла руку матери в свою. Рука Евы была сухой и хрупкой. Они в молчании выпили по рюмке портвейна, который немного согрел их. Ева поставила пластинку «Семь последних слов Христа» Гайдна. Снова закурила.
— В июне 1942 года отец получил назначение в Бухенвальд. Всю неделю, предшествовавшую нашему отъезду, мама наводила порядок в квартире и упаковывала вещи. Она была счастлива, что отец получил такой ответственный пост и сможет наконец внести свой достойный вклад в войну.
Последнее, что я запомнила перед отъездом, — укутанные белыми простынями диваны и кресла. Пока отец носил чемоданы вниз, к машине, мама медленно играла последние аккорды «Бури» Бетховена. У нее был отстраненный вид. Потом она обернулась ко мне и сказала с невыразимой печалью в голосе: «Сейчас, когда приходится расставаться с пианино, у меня такое же чувство, как после смерти моих мальчиков». И она бережно укрыла пианино кружевной простыней.
В то время как части немецкой армии направлялись на Кавказ и в Сталинград, мы ехали на запад. По дороге мы не встретили ни одного человека в военной форме. Немецкие деревушки были спокойными, ухоженными и красивыми. Ничто не напоминало о войне. Она казалось мне такой же далекой, как русские равнины. Иногда заходили разговоры о коммунистах, но меня это совершенно не заинтересовало.
Нас разместили в маленьком домике из известнякового камня на окраине городка. В похожих домиках жили и высшие чины СС со своими семьями. Это было симпатичное местечко. Все домики стояли на огороженной территории, где было много деревьев, а под ними расставлены садовые столы и стулья. Папа сказал, что, когда наступит лето, будет очень приятно гулять в этом парке.
На второй день после нашего приезда мы были приглашены на официальный ужин, организованный в честь моих родителей — господина доктора Хольца с супругой. Я не говорила тебе, что до тех пор, пока я не стала Евой Хоффман, моя фамилия была Хольц?
Стол был роскошным, и повсюду были зажжены свечи в серебряных подсвечниках. Женщины были одеты просто, но с той элегантностью, которая всегда отличала жен немецких военных. Мама тут же повеселела. Комендант лагеря усадил ее по правую руку от себя. Она всегда была неравнодушна к такого рода знакам внимания. Когда подали десерт, он попросил тишины и с гордостью объявил, что завтра утром мама сыграет здесь на пианино. «Мы все знаем, какая вы талантливая пианистка, фрау Хольц! Поэтому будет преступлением скрывать от нас свое искусство!» Все собравшиеся зааплодировали, а у мамы выступили слезы на глазах от счастья. Наконец-то она снова обрела достойную аудиторию!
Взглянув в окно, я увидела метрах в ста от дома коменданта длинные низкие строения — лагерные бараки, обнесенные колючей проволокой.
За те три года, что мы прожили в Бухенвальде, мы никогда не приближались к территории лагеря. Это было запрещено.
Иногда, вместе с другими детьми, я пряталась в кустах неподалеку оттуда, и мы молча наблюдали, как густые облака черного дыма поднимаются к небу. Самые маленькие зажимали носы. Те, кто постарше, прижимались друг к другу и ждали, пока дым окончательно рассеется. Знала ли я в глубине души, отчего этот дым? Я не могу ответить однозначно. Если я скажу «нет», это будет не совсем правда — мне почему-то кажется, что каждый из нас втайне догадывался… Да, мы знали, что этот дым и запах — от горящих человеческих тел… Это было какое-то абстрактное знание… Дети часто обладают такой врожденной интуицией, не связанной с реальностью… Понимаешь, о чем я?
Плачь, дочурка, плачь обо мне — мне становится лучше от этого… Налей себе еще портвейна. Хорошее успокоительное.
Мама часто устраивала фортепьянные концерты в большом зале офицерской столовой. По большей части она играла Моцарта или Бетховена. Иногда — «Веселую вдову». Она всегда получала удовольствие, исполняя отрывки из этой любимой оперетты фюрера.
Зимы тут были долгими и холодными. Иногда мама по нескольку дней подряд не выходила из дома. Мне приходилось в любом случае идти в школу. У нас был один-единственный преподаватель для детей всех возрастов. Мы проходили немецкую литературу и учили наизусть отрывки из «Mein Kampf».
Отца я почти не видела. Он был слишком занят. Когда я спрашивала, что он делает в лагере, он неизменно отвечал с рассеянным видом: «Я лечу людей…»
Когда наступила весна, мама стала давать уроки музыки. Сначала детям офицеров СС, потом их женам. Нужно было чем-то занять время. В доме начали появляться женщины. Мама пекла «apfel-strudel»[9], и они пили чай. Говорили о Берлине или о Мунихе, о музыке и живописи. О детях. Но никогда — о лагере и о том, что там делают их мужья. А если и говорили, то только шепотом. Вообще они часто разговаривали шепотом. Но на их лицах не читалось ничего, кроме скуки, вызванной монотонной жизнью без развлечений и часто — без мужчин. К остальному они, кажется, были равнодушны.
В апреле сорок пятого мне исполнилось шестнадцать. Мое взросление началось и закончилось в Бухенвальде.
Иногда заключенных куда-то увозили. Отец по-прежнему проводил на работе почти все время. В те последние недели я его практически не видела. Что касается мамы, она совсем перестала мной интересоваться. Она целыми днями сидела за пианино, снова и снова играя заключительную часть «Бури». Однажды она с такой силой захлопнула крышку пианино, что висевшая на стене фотография фюрера упала на пол. Мама схватила партитуру и разорвала ее в клочья, а потом растоптала. Казалось, она обезумела. Я подбежала к ней, но совершенно не знала, что делать. Тут я заметила, что она смотрит в окно. На территорию лагеря въезжал американский танк, круша ограждение из колючей проволоки. Я ничего не слышала. Был вечер 11 апреля 1945 года.
Все соседские женщины и дети стояли на ступеньках своих домов. Мы беспомощно наблюдали за вторжением. Я подумала об отце. Мама изо всех сил стиснула мою руку в своей. Должно быть, она думала, что он убит…