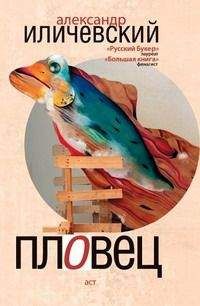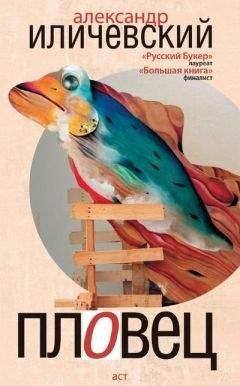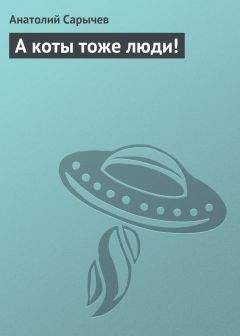Гиркан не был единственным сектантским селом в тех краях. Были еще и Вольное, и Пришиб, и Гюль-Чай. На отшибе империи земля всегда была вольнодумной. Часты были по этим селам многочисленные собрания с религиозным кипеньем. Текучая среда веры была движима упорством воображения, надежды, жажды немедленного Царства на земле, а не за смертью.
С приходом советской власти споры о том, чей толк исповедания истинный, поутихли. Но разделение на солдат и сектантов осталось. К тому же бунтом перед царем сектанты заслужили у большевиков покой.
VI
В горных окрестностях Гиркана находился глухой аул Шихлар. Неподалеку от него имелось некое капище, у которого на Ураза-байрам собирались жители даже из дальних горных селений. В ауле этом жило много сеидов — особо почитаемых людей, обладавших священническими полномочиями. Это была выделенная порода людей, словно бы великанов. Не гулливеры, но все как на подбор рослые, красивые. Верхом они были особенно хороши, так как сумма линий лошадиной стати усиливалась, а не выступала пьедесталом их собственной осанке.
VII
Федор был из солдат. Разное о нем говорили в Гиркане. Был он нелюдим, но знался со всеми, поскольку был первым поставщиком дичи.
Говорили про него, что во время войны он служил немцам. За речкой жил один субботник, который видел его надзирателем в концлагере под Донецком. Вскоре после того, как пронесся слух, к Федору пришли особисты с заставы. Для расследования его арестовали, но отпустили через месяц. А слух остался, такое не пропадает.
И тогда субботник этот пришел к Федору сам — с просьбой покаяться. Федор его побил, прогнал уздечкой по всей улице.
Но через день субботник снова пришел. Сел под забор на землю и каждый день потом приходил и маялся, заглядывая в окна.
Тогда Федор с ним подружился на долгие годы. Иногда замирал духом, выслушивая рассказы о Святой земле, что за горами — «только бы Иран да Туретчину пройти».
У субботника этого было вострое лицо блажного человека. Звали его Иосифом. Лицо его словно бы рассекало вокруг воздух, и потому казалось, что тот, кто смотрел на него, оставался в одной половине, беспокойно провожая глазами поплывшую быстро вторую. Находиться с ним рядом было тревожно, его беспокойство передавалось вокруг даже собакам. Но Федор отчего-то был внимателен к нему, не разговаривал с ним, а только слушал, что-то рядом постругивая, поделывая, починяя. Слушал, как радио, как чудесное явление горячей речи.
— Птицы в заливе временят на привольной сытой зимовке, — объяснял Иосиф. — Весной иные улетают на реки Сибири, Урала, Чукотки, другие держат путь дальше, к югу. Да и мы здесь на полпути к Иерусалиму, на последней жировке.
К Федору еще приезжал из Баку брат Шура: красивый, статный, легкий духом, большой добрый пьяница. Он был слепой. На войне служил в разведке. В 1943 году шла их разведрота кукурузным полем. Вдруг затаились. Но ничего, вроде тихо. Посидели часок. А как стали выходить, всех покосило, один Шура уцелел: нашли вечером свои. Солдаты вразброс лежали в кукурузе, их отыскивали, гремя сухими листьями. Лиловые венчики тугих зубастых початков мотались, скрипели об щеку. Пуля вошла под челюсть, вышла из-под брови. (Он закинулся навзничь, когда полоснула очередь, и потом говорил мальчишкам, всегда его осаждавшим из симпатии: «Стреляют — ныряй, не отбрасывайся».) Один глаз вытек, второй ослеп, но смотрел, как живой. Два раза после войны Шура писал глазнику Филатову, но тот даже по предварительному диагнозу отказался оперировать. Жен у него за жизнь переменилось пять, пока он не осознал свою бесплодность. Две жены были зрячие, такой он был красивый. Последнюю Шура выгнал, чтоб не мешалась. Жил он в Баку, в Городке слепых имени Солнцева, одного из бакинских комиссаров. Каждый угол Городка был оснащен системой медных сияющих табличек с выбитыми на них стрелками, окропленными затертыми надписями Брайля. Слепые ходили прямо и отвлеченно, палочками дирижируя пространством. Забредшие сюда зрячие предпочитали идти по проезжей части, глядя себе под ноги. Детей Шура любил беззаветно. Соседскую малышню нянчил и баловал. Когда среди них вспыхивали ссоры или старшие обижали младших, врывался в их ватагу и, закинув красивую, яростно перечеркнутую голову, стучал по забору и камням, призывая к миру. Был Шура ударником труда (собирал на конвейере электрические лампы, выключатели, розетки), часто ездил в санатории, где любил ощупывать медсестер, знакомясь.
Когда Шура гащивал у Федора, Йося-субботник многозначительно предупреждал братьев:
— Не обпивайтеся вином, в нем Бог есть.
Обидевшись, Йося поворачивался и уходил к низкому забору, за которым на него бросалась, громыхая цепью, таща за собой будку, безухая, бесхвостая овчарка Джульбарс. Успокоившись, собака подходила и лизала протянутые ей пальцы.
Сердясь на Йосю, Шура говорил Федору:
— Бобыль. Вот и едет все куда-то, в Палестину. Был бы женатый — не ехал.
Дети пылили по улице, гоняя в проволочном крюке бочарный обод. Брели с пастьбы овцы, трясясь, покачиваясь, круглясь в сумерках, точно кучки галечника. Сочные звезды накатывали из глубины еще светлевшего небосвода. Наливавшийся лиловой теменью воздух прошивался нисходящим посвистом стрижей, безмолвными, скомканными зигзагами летучей мыши. Падучая звезда слабо надрывала созвездье. Иосиф видел все это, внимал раскачивавшемуся все сильней звону цикад — и уходил не попрощавшись, влача за собой тоску и страсть одиночества…
Федор не знал, зачем ему этот субботник. Жизнь он тогда уже прожил: вырастил двух дочерей, проводил их в Россию, видел войну, ценил мир, как хлеб, был счастлив морем, птицами, горами. Да и Федор субботнику был не в помощь. Иосиф говорил много непонятного, шепотом повторял о себе: «Я иудей с Христом за пазухой»; говорил о том, как уйдет за Персию — да что там, уже ходил: раза два, только понарошку, разведкой.
VIII
Родился Федор в год первой революции; семья его была несчастливой, хотя и зажиточной, крепкой. Мать его была красавицей, весь Гиркан знал Марию. Появились они с Шурой один за другим. Было им три и четыре годика, когда в Гиркане на Солдатской стороне играли знаменитую свадьбу. Староста выдавал дочь. Все горы знали об этом празднестве.
Столы тянулись со двора на улицу. Осетры, свесившись с блюд, хлопали хвостами по бедрам стряпух. Медная от жара птица, обложенная айвой, начиненная орехом, в великом множестве теснилась на скатертях, плыла в зарослях пряной зелени, среди огуречных пирамид и пушечных помидоров. Молодое вино пенилось в кружках, вливалось в ноги, уносило их в море. Жених и невеста двумя пестрыми шатрами, продевшись в объятья, свившись шеями, ногами, реяли над столпотвореньем. Коты валились с ног посреди двора от обжорства.
Среди гостей на свадьбе был старостин кунак — сеид аула Шихлар. Восходя кровью к великой Фатиме, сеид этот был духовным главой общины. Высокий, плечистый, сидел он за отдельным столом со своей рослой свитой, крытой бараньими шапками. В белой бурке и заломленной белой папахе, располосованный газырями, он не отрывал взгляда от Марии. Ее муж, Андрей, приблизился к старосте и сказал ему, что «сейчас отрежет голову этому барану». В это время сеид подступил к Марии (она продвигалась меж столов мелким плясовым шагом, наступая и отступая перед подругой) и, взявшись за кинжал, стал что-то говорить, грозно гаркая и кивая.
Андрей слетел на сеида из воздуха и впился в горло. Его оттащили нукеры, отдали старосте. Сеид выбежал со двора, выкрикивая проклятия. Заржали лошади, долбясь мордами о привязь, засвистали, захлопали нагайки, задроботали копыта.
Мария со страхом смотрела на мужа. Поклонилась ему, рукой разгладила его волосы.
Но не один староста нахмурился. Дед Федора пошел домой. Там он снял ружье с гвоздя и вернулся садами на задворки свадьбы.
На второй день гулянья, когда молодые уже удалились на покой, а женщины затянули песни, дрожь галопа пронзила сумерки, вошла в ноги, добралась до рук — и во двор влетел на коне сеид, дал круг, пока заезжали его нукеры, и сверкнул над головой пьяно поднявшегося ему навстречу Андрея. Подхватив осевшую Марию, потянул, не удержал, от выстрелов лошадь встала на дыбы, но тут же рухнула на колени — один из нукеров соскочил с седла, закинул женщину на шею лошади — и ахнул, убитый выстрелом старосты. Женский крик оборвался. Над грудью убитого медленно поворачивался запененный глаз коня. Сеид вздернул поводья, ринулся на толпу, зашиб, повернулся, рубанул по тянувшимся к нему рукам — и, колотя шпорами, понес через ночь свой страшный белый груз.
Едва удержав в руках затяжелевшую голову, Андрей упал на колени и заперхал хлынувшей в горло кровью. Ткнулся ничком — и глаза его остановились на толкавшей валиком пыль черной луже.
Федор присел над отцом.