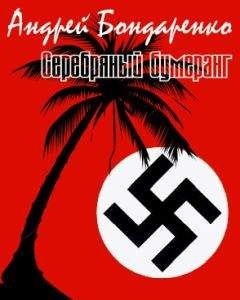— Отныне этот избранный им холм Итапе, — добавил проповедник, — будет называться Tупá-Paпé, ибо стезя господня пролегает по самым смиренным местам и наполняет их благодатью.
Это название — Тупа-Рапе — сохранилось и по сей день; на языке гуарани оно означает «путь бога».
— Я не согласился с проповедником, — рассказывал Макарио. — Зачем понадобилось новое название! Уж если менять, так холм Христа должен называться Куимбаэ-Рапё.
Так он его и называл: «путь человека».
— Потому что человек, дети мои, — говорил Макарио, почти в точности повторяя слова Гаспара, — рождается дважды. Один раз — когда появляется на свет, другой — когда умирает. Он умирает, но остается жить в других, если он делал добро ближнему и при жизни умел забывать о себе. Земля поглотит только его тело, но не память о нем.
Для сына одного из вольноотпущенников повелителя Франсии бессмертие, на которое может надеяться человек, вероятно, в том и заключалось, чтобы отрешиться от себя и продолжать жить в других. Уж если люди объединены в горькой земной доле, то и надежда на искупление должна служить их объединению.
— Это должно быть общим делом всех людей.
Действительность явно не отвечала его мечтам, вот он их и высказывал вслух.
— Я уже очень стар. Не гожусь ни на что. А вы должны дерзать.
Мы его не понимали, думали, у старика ум за разум зашел.
Потом он быстро стал сдавать. На следующий год, когда праздновали столетие независимости[20], у Макарио уже была катаракта. С каждым днем он все больше слабел, все ниже клонился к земле. И, может быть, не столько под бременем своих девяноста лет, сколько от горечи недавнего поражения.
Он остался один, потерял зрение, утратил память, впал в самое страшное состояние, когда человеку уже все безразлично. Я помню его в ту пору. Комок высохшей грязи, брошенный мальчишкой, мог убить его наповал.
17
Железнодорожные рельсы убегали все дальше по шпалам, рассекая красную землю долины. Они огибали холм и сверкали в открытом поле.
Итапе понемногу пробуждалась от многовековой сьесты. Но деревне опять суждено будет разделиться на два непримиримых лагеря, так что политический начальник[21] и священник без особых усилий укрепят свою ослабевшую власть.
Макарио все еще бродил по дороге, слушал, как гудят шпалы под кирками и лопатами жителей Итапе, нанявшихся на строительство и работавших, как каторжные.
— Прощай, Макарио! — неслось вслед старику.
Если он подходил поближе, люди давали ему что-нибудь поесть из своих скудных запасов: несколько зерен поджаренного маиса, кусочек маниоки, — не больше, чем помещается в зобу у маленькой птички.
Однажды зимним утром, закоченевшего, спокойного, в чистом рубище, его нашли у подножия холма. Труп уложили на повозку со строительными инструментами и отвезли в деревню. Громыхающие по новеньким рельсам колеса творили ему заупокойную молитву. Похоронили старика в детском гробу.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Дерево и плоть
1
— Вон Доктор идет!
Так говорят люди ранним утром, когда подернутая росой и пылью деревня Сапукай одну за другой подставляет навстречу восходящему солнцу свои хижины, лепящиеся вокруг захудалой церквушки и разрушенной станции.
Поблескивая на поворотах, тонкие, как рог молодого месяца, рельсы теряются вдали. Подле железнодорожного полотна маячат почерневшие кучи строительного мусора, словно гигантские хлопья, за ночь осевшие из густой тьмы. Рабочие постепенно засыпают глубокую, вырытую взрывом воронку, которая кажется бездонной. Кроме земли, она наполнена жертвами взрыва: в ней обрели могилу мужчины, женщины, дети — не меньше двух тысяч человек. Сколько туда ни валят песка и щебня, ее все никак не заполнить до краев.
Всякий раз, когда поезд проходит над этим зияющим кратером, железные десны моста угрожающе дрожат на временных сваях.
Может быть, все, что попадает в воронку, проваливается сквозь глубокие трещины; может быть, придется еще много потрудиться, прежде чем мертвецы, погребенные под путями, успокоятся навсегда.
Всюду видны следы шрапнели, искалеченные вагоны, остатки черной лавы на красной земле — засохшие плевки извержения. Потому что все именно так и произошло, как если бы под ногами людей внезапно разверзлась земля.
Многие стены залатаны необожженным кирпичом, соломенные или цинковые крыши заделаны расколотыми надвое пальмовыми стволами и пучками травы, которая станет цвета спелого маиса, как только взойдет солнце.
По дороге из гончарен Коста-Дульсе, пролегающей через деревню вдоль железнодорожного полотна, идут собака и ее хозяин. Они не помнят о катастрофе. Они безучастны ко всему.
По правде говоря, теперь идет одна собака.
Пастбища дышат влагой, дорога — пылью. Собака бредет потихоньку, не торопясь. Поднимающийся от земли пар лижет ей лапы, прилипает пегими пятнами к шерсти, нагоняет сои. Зажатая в зубах пальмовая корзинка раскачивается при каждом движении лохматой головы.
Появилась собака — деревня знает, что пора вставать.
На горизонте бледнеет сверкающая Венера. Выходят возницы к стоянкам. Лесорубы отправляются в лес, на плечах у них поблескивают топоры, отражая первые лучи солнца. Мужчин в Сапукае мало; те, кто уцелел при взрыве и не был расстрелян, ушли куда глаза глядят. Гончарни Коста-Дульсе совсем опустели. Там никого не осталось. Все присоединились к восставшим крестьянам. И еще много времени спустя никто не хотел резать и обжигать кирпичи для новых построек в этой деревне, которая, едва успев появиться на свет (в тот год, когда по небу пронеслась комета), казалось, избрала для себя горькую участь.
«Меченая», — говорили о ней жители, вспоминая предзнаменование — комету.
Вот почему в час, когда робко занимается заря, женщины, старики и даже дети тоже уходят на работу: на огороды, плантации, бойни. В этот ранний час деревня кажется особенно безлюдной, почти вымершей. Время от времени скрипнет ворот колодца, в каком-нибудь богатом доме глухо застучит деревянный пестик, толкущий в ступе маис, наверное, для каши или к тушеному мясу. Учащенно бьется это деревянное сердце; петухи долбят клювами землю — вот и все, что слышится по утрам.
Сапукай просыпается не так шумно, как другие деревни, еще и потому, что железнодорожные мастерские сейчас закрыты. В церкви тоже не звонят. Во время взрыва колокольня взлетела на воздух; колокол все еще лежит среди загаженной голубями крапивы, впившись железными губами в землю.
В этот мертвый час, когда солнце пронзает лучами горы Итакуруби, очерчивая выпуклый, точно фурункул, темный холм Серро-Верде, вдоль путей идет собака. Идет она, и когда солнце скрыто тучами. Каждый божий день, в хорошую погоду и в ненастье, собака неизменно первой проходит по спускающейся из лесу дороге, где неподалеку от кладбища и гончарен Коста-Дульсе стоит заброшенная хибарка Доктора.
Даже ливень не в силах удержать ее.
— Вон идет Доктор!
Люди не говорят этих слов. Они произносят их мысленно. Без иронии. Они обращаются к тени своего знакомца и — несмотря на случившееся — благодетеля. Потому что в свое время Доктор был другом и покровителем Сапукая.
Он попал сюда в ту пору, когда еще не стерлись следы катастрофы и, возможно, сам того не желая, отвлек внимание жителей деревни, всецело поглощенных бедой, разразившейся над ними более пяти лет назад. Потом, не жалея сил, он бескорыстно помогал бедным и сирым и, наконец, опять-таки безо всякой выгоды для себя, устроил вокруг своего ранчо лепрозорий, который существует и по сей день.
Вот каким человеком был этот Доктор. Людям и поныне мерещится, что он идет вслед за собакой.
2
Прислонившись к столбу у ранчо, что стоит неподалеку от кладбища, Мария Регалада смотрит на собаку. Мария таращит сонные глаза и о чем-то вспоминает.
Рядом с собакой она видит высокую тонкую тень. Нет, для Марии Регалады это вовсе не тень, как, впрочем, и для собаки. Но тени нет. Есть только собака. Она медленно перебирает лапами и робко вынюхивает давно исчезнувший след. Следа тоже нет, но она его чует: запах хозяина преследует ее. Глаза у собаки гноятся, в зубах сломанная, грязная корзинка, по бокам которой стекают две серебряные ниточки слюны. Через кладбище, мимо ранчо Марии Регалады, она идет от леса до лавки дона Матиаса Сосы и обратно. Всего полторы лиги.
Весной будет как раз полгода, как Доктора нет в Сапукае, и никто не знает, где он. Он исчез как дым, от него осталась лишь тощая собака, которая каждый день ходит с корзинкой в зубах, как и в те времена, когда Доктор отправлялся ранним утром покупать скудную провизию и расплачивался за нее жалкими грошами, полученными от больных.
С удивительной точностью ходит она по той же дороге — маленький лохматый спутник вращается по таинственной орбите, где так странно переплелись жизнь и смерть. Дойдя до лавки, ставит возле дверей плетеную корзинку и начинает терпеливо искать у себя блох или спокойно сидит, свесив уши. Вокруг нее вьются мухи. Вдруг она с быстротой молнии поворачивает голову и прихлопывает языком какую-нибудь летучую тварь «Отличное попадание» — сказал бы дон Матиас, если б увидел эту охоту. Собака опускает голову, будто стыдится или мучается укорами совести, и опять сидит спокойно, пока лязганье засова и скрип дверей не выведут ее из оцепенения.