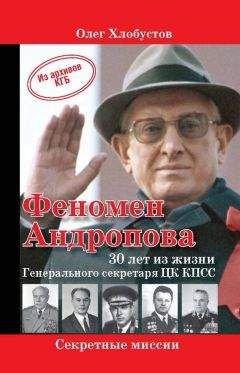В слухи о том, что некоторых начальников службы охраны и даже рядовых, но слишком много знавших оперов отправляли на загородный объект Спецотдела и там растворяли в ваннах с серной кислотой, Софрончук не верил. Хотя правда и то, что некоторые его коллеги после перемен наверху иногда бесследно исчезали, но наверняка их просто переводили куда-нибудь в Магаданское управление. Но чтобы убивать — не в сталинские же времена живем! Теперь, если такое и возможно, то уж в каких-то совсем странных, самых исключительных обстоятельствах. Да и то сказать, когда на эту работу приходишь, то берут же с тебя подписку о готовности, если потребуется, и жизнью пожертвовать. Ты все же офицер и почти на войне, почти на переднем крае. А то как привилегии, как допуск к высшим тайнам, к огромной власти, так это вот они мы, с тарелкой и ложкой… А как ответственность на себя принять, так это наших нету. Обнаглели.
Вот о чем думал Софрончук, сидя в кабинете Ульянова и пытаясь угадать, зачем тот его вызвал, да еще срочным образом, лишив выходного.
Логово. Берлога. Нервный центр, что там еще приходит в голову. Не так часто Софрончук в этом кабинете бывал. Три или четыре раза всего. Нет, именно, что три. Это внукам можно будет когда-нибудь приврать слегка, для пущей важности и занимательности. А самому-то себе — зачем? Именно что три, причем два из них — так, мимолетное свидание, руку пожали, благодарность объявили и — гуляй, Вася! И один раз всего, перед назначением, достаточно долго его тут продержали, инструктируя. Этим тогда, конечно, предшественник Ульянова занимался. Вальяжный был товарищ, генерал Голыванов. Важность и причастность прямо-таки источал, Ульянов ему в подметки не годится. Но и то сказать, Ульянов же профессиональный чекист, из недр Второго главка выплывший. Отсюда и повадка: вкрадчивость, незаметность, манера говорить тихо-тихо. Великолепный прием, между прочим, заставляет собеседника напрягаться и с ходу ставит его в трудное положение.
А Голыванов — тот генерал от артиллерии был, с бывшим генсеком, покойником, на фронте где-то задружбанился. От его баса стены дрожали — гром победы раздавайся, и все такое прочее. Голыванов, понятное дело, царствовал, но не правил. А правил его первый зам — Опарин, по кличке Опричник. Ох, и страшный был человек! Властью обладал тайной, но беспредельной, любого мог уничтожить или вознести, министры ему в пояс кланялись, да что там министры, секретари ЦК, и те заискивали, не стесняясь! А уж своя-то братва, «девяточная», так и вовсе в стену вжималась, только его завидев. Взгляд у него особый был, прямо насквозь пронизывал и до самых пяток пробивал! И где теперь тот Опричник? Кого глазами своими сверлит страшными? Ни слуху, ни духу, будто и впрямь исчез в серной кислоте…
Оглядеться вокруг как следует ни разу до сих пор не удавалось. А вот сегодня Ульянов зачем-то дал Софрончуку возможность посмотреть, полюбоваться, пока он какой-то документ срочный якобы досматривает. Стиль вообще-то не чекистский, это так в ЦК посетителей выдерживают, до кондиции доводят, а в Конторе обычно отношения жесткие, разговоры короткие, отрывистые, времени зря не тратят. Чем меньше слов, тем лучше. И никаких лишних пауз.
Но Ульянов в таких сферах вращается, что его уже просто чекистом не назовешь. Он уже там, по другую сторону, один из жрецов, которых нормальному человеку не понять.
Вот сидит, документ пролистывает, каждую страницу визирует какой-то чудной ручкой неправильной формы, а левой рукой время от времени делает какой-то успокоительный жест, типа сейчас, еще минуту, и освобожусь.
Может, и правда, не важности напускает, а в самом деле трудится, план какой-то утверждает. В неурочный час вкалывает — в субботу, на ночь глядя.
Сколько там на часах-то натикало? Ух ты, уже полдвенадцатого почти… Часы на стене непростые, деревянные, в тон стенам, светлым орехом обшитым.
Стол у Ульянова гигантский, телефонов и всяких других аппаратов связи с гербом СССР — чудовищное количество. Как он только в них не путается!
— Ну как ты, Софрончук? — Ульянов наконец завершил свою работу, перевернув документ, как положено, лицом вниз. Заговорил, как всегда, еле слышно, Софрончуку аж привстать захотелось от напряжения.
— Так точно!
— Что «так точно»? Разобрался с нарушением режима?
— Так точно, товарищ генерал-лейтенант госбезопасности…
Ульянов поморщился, небрежно взмахнул кистью левой руки, дескать, зачем такие формальности.
— Ну, и что там?
— Ерунда какая-то, честно говоря, товарищ генерал… Я собрал все показания, как полагается… И никто не подтверждает… никто не видел в тот день этого человека, в смокинге…
— И в чем тогда проблема?
— Да товарищ Фофанов… он настаивает. Говорит, не могло ему почудиться…
Ульянов крякнул вроде участливо, но глаз своих рыбьих, ничего не выражающих, с Софрончука ни на секунду не спускал, словно искал признаков чего-то. Точно проверял, не выдаст ли он себя чем-нибудь. «А чего выдавать? Выдавать-то нечего! Эх, приемчики эти, в гробу я их видал!» — проносилось в голове у Софрончука.
— Ты, полковник, знаешь, давай-ка закрывай эту тему. Еще не хватало нам таких чудных происшествий в первом подъезде…
— Вот и я говорю, товарищ генерал, никак такого себе представить невозможно, чтобы при нашем-то строжайшем режиме…
Сказал Софрончук и осекся. Поскольку не мог понять, как Ульянов реагирует. А тот все смотрел на него холодными пустыми глазами, в которых ничего не прочитаешь.
Возникла пауза, во время которой Ульянов как будто ждал чего-то еще, каких-то еще других слов. А Софрончук просто потерялся и не знал, что еще сказать.
Наконец Ульянов заговорил снова:
— А в центральном здании на Лубянке, как ты думаешь, строгий пропускной режим или как?
— Я знаю, на что вы намекаете, товарищ генерал, на то, как там год назад алкаша какого-то спящим нашли. Я об этом много думал, как такое могло произойти.
— И что надумал?
— Это шутка была, товарищ генерал, розыгрыш или на спор сделано, по пьяному делу. Наверняка несколько оперов вместе постарались. Заморочили общими усилиями охране голову. Не исключено, что даже и с элементами гипноза. У кого-то еще удостоверение одолжили с похожей на физию алкаша фотографией. Потому что другого никакого объяснения нет и быть не может.
— А у тебя в комендатуре шутников нет, ты хочешь сказать?
— Нет, — ответил Софрончук твердо, — у меня — нет.
— А в аппарате ЦК?
— Не могу такого себе даже представить, товарищ генерал.
— Ну-ну, — сказал Ульянов с непонятной интонацией. Потом добавил: — А про Дрыгало помнишь?
— Ну, как такое забудешь, товарищ генерал… Я же за начальника в тот день был…
— Ах, ну да, да. Ты же еще потом за уборщицу эту просил, которая в ЦК работать отказалась. Как ее звали-то? Нина, кажется. Ца-ца, понимаешь…
— Коваленко, Надежда. Шок у женщины случился, товарищ генерал. Я помню, прибегает к нам, рыдает, что-то бормочет… я понять ничего не могу… пришлось ее медикаментозными средствами в себя приводить.
— Нечего на работу к нам приходить, коли нервы слабые…
— Ну, женщина все же…
— Женщина, не женщина… Сержант госбезопасности, между прочим…
— Нет, товарищ генерал, вы представьте себе: приходишь с утра пораньше убирать в кабинет заместителя заведующего отделом ЦК КПСС и вдруг видишь картину: ответственный товарищ лежит на столе совершенно голый, в чем мать родила! Причем Надежде сначала показалось: мертвый. Потому как синий он был вроде бы — совсем синий! Она со страху завопила, так он возьми и вскочи со стола, и ну на нее кидаться с какими-то криками на непонятном языке. И, как ей показалось, с намерением с ней тут же, на месте, совокупиться.
— Что за язык-то был, хоть выяснили?
— Да африканский язык, хауса. Дрыгало его в ИСАА учил. Надежда в обморок упала. Когда пришла в себя, видит, что Дрыгало, по-прежнему голый, по кабинету скачет — на ее швабре верхом, всадника изображает. Ну, тут она сумела из кабинета выскочить и бегом к нам.
— Ну, вот видишь, а ты говоришь, шутников у вас там нет…
— Нет-нет, товарищ генерал, это не то, это — белая горячка. Пополам с шизофренией. Это не мы, это медики просмотрели.
— Ну-ну, — опять непонятно сказал Ульянов.
Помолчал еще чуть-чуть, Софрончука рассматривая. Потом говорит:
— Аналитик ты, как я посмотрю. Мастер дедукции. Но, коли так, если товарищ Фофанов ошибается и никакого постороннего в ЦК не было… То что в таком случае ты про него заключаешь?
— Никак нет, товарищ генерал, ничего не заключаю, нам не положено заключать о партийных руководителях.
Возникла еще одна пауза, в течение которой Ульянов изучал Софрончука, а тот его взгляд смиренно выдерживал, глаз не отводил. Дескать, вот он я, весь, как на ладони, честный и открытый, и прятать мне нечего.