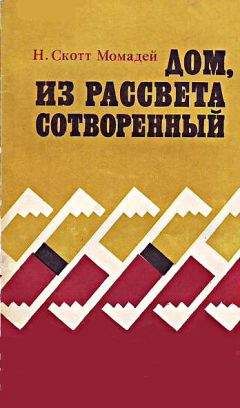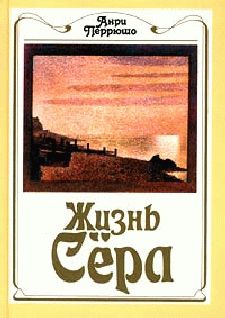Позже, когда тень выросла в каньоне и наступил долгий предвечерний час, ей пришло время отлучиться. Она заперла двери, направилась вниз по дороге — к водолечебнице. Молча принеся полотенца в одну из кабинок, служительница наполнила ванну дымящейся минеральной водой. Анджела задернула занавески, разделась, легла в воду. Вскоре мленье поползло по телу, и слышно было ей лишь собственное медленное, мерное дыхание да поплескивание воды. Со вздохом, расслабившись вся, она опустила затылок на край ванны. Вода курилась паром, и тело поколыхивалось в ней, почти как колышется на плаву дерево. Ступни и коленки порумянели, распарясь. Анджела чувствовала, как на лбу выступают чистые, теплые бусинки росы и, помедлив, скатываются с виска в полотенце, обкутывающее волосы. Она рада была позабыть о времени, рада уплыть в бездумье — отогнать от себя хоть на час тайное, смутное предчувствие стыда. Потом она легла на топчан, служительница обернула ее легким байковым одеялом, и она задремала.
Когда она вернулась домой, Авель сидел на переднем крыльце — не ожидающе, казалось, а спокойно и невозмутимо. Поднявшись к верхнему краю каньонной стены, последняя полоса света угасала на кроваво-красной скальной кромке над деревьями. Мгла, залившая каньон, была странно холодна, гораздо холоднее, чем будет ночь. На горизонте висел бледный полумесяц, У карниза попархивала взад-вперед колибри над высокой веткой дрока. Пчелы еще летали.
Он молча последовал за нею в дом, прошел по темным комнатам. В кухне она включила свет и от внезапной вспышки слегка вздрогнула. Налила ему кофе — он сидел, слушая ее, воспринимая, понимая ее тяжкое томленье, но храня невозмутимость. Она была благодарна — и раздосадована. Она не предвидела такого оборота отношений, не представляла себе, что он сможет поменяться с ней ролями. Хотела было позабавиться, а теперь чувствовала лишь благодарность и досаду. Что было удивительнее всего и позволяло гордости ее остаться незадетой, это легкий позыв к смеху — не к насмешке, входившей в ее первоначальные намерения, а к жесткому холодному веселью, которое зрело в ней вместе с некой слабою опаской. Не уйти было от реальности стыда, от суровой наготы электрического света. Не было сейчас той Анджелы, какой она себя воображала — непринужденной просветительницы темного туземца. И не было воли отмахнуться от него пренебрежительно. Он сидел и смотрел на нее — не ожидающе, а тихо и спокойно, чуя, сознавая силу своей власти и желания. И она реяла мотыльком вокруг этого ярого спокойного огня.
Протерев до блеска, она поставила чашку и блюдце на место в буфет; она дышала коротко, неровно. «Ну что ж», — произнесла едва слышно. Это «ну что ж» не выражало ни согласия, ни покорности — просто надо ведь что-то сказать. Пусть бы он сказал хоть что-нибудь и сам; все сделалось бы тогда намного легче. Но он молчал.
— Авель, — сказала она, отойдя к стене и обернувшись, — как, по-твоему, я очень красивая?
Заведя руки за спину и опершись о стену, она слегка повела головой, отбросила прядку со лба. В раздумье прикусила щеку.
— Красивая, но не очень, — сказал он.
— А хотел бы ты любить меня?
— Да.
Она взглянула на него в упор, оборвав раздумье.
— Хотел бы, говоришь? О да. Я видела же, как ты на меня посматривал. Молчание.
— А я — я тоже бы хотела? Как ты думаешь?
— Не знаю, — ответил он, — но думаю — да.
Анджела глотнула воздух; помедлив, подошла к нему. Наклонилась, поцеловала, и, обняв, он привлек ее к себе. Она ощутила силу его рук, теплоту тела. Руки загрубели от работы и пряно пахли деревом.
Она повела его сквозь комнаты и вверх по лестнице — быстро и молча. Коридор был темен, но в спальне горел ночник. Там царило тепло и мягкие большие тени. Выпустив его руку, отвернувшись, она стала раздеваться. Он видел ее отражение — вернее, силуэт — в овальном настенном зеркале. Когда она повернулась к нему снова, на обоих уже не было одежды. Минуту они стояли в неярком голубом свете. Авель глядел на нее, и она не уходила от взгляда. Нагая, она казалась очень бледной, хрупкотелой. Но была гибка, и линии округлы. Шея длинная, плечи узкие, покатые. Груди малы, расположены чуть низковато, но островеришинны и крепки. Плавен изгиб живота, боков, раздающихся к бедрам. Ноги стройны и красивы и широко расставлены в тазу.
— Что ты со мной станешь делать? — спросила она, учащенно дыша, приоткрыв мягкие губы. В черном обрамлении волос лицо ее и шея были тонко красивы.
Они обнялись, и Анджела всем телом ощутила его жилистость, крепость, наполненность жизнью, его темную кожу, горячую, тугую, влажную от возбуждения. Она почувствовала, как упруго перекатываются по ней мышцы его живота и бедер, у нее захватило дыхание. Он опустил ее мягко и ласково на кровать, приникая сверху, целуя в лоб, глаза, в приоткрытые губы, медленно налегая тяжестью плеч и груди, и ей казалось, он сейчас ее раздавит.
— Ну же, — проговорила она быстро, задыхаясь.
— Нет еще, — ответил он, и на мгновение она обмякла, жар угас. «Ах, нет, ах, нет!» — подумала она, но Авель знал, что делает. Язык его и пальцы были вездесущи, он горячил ее так медленно, таким неистовым огнем исполнил ее тело, что в ней закипал крик. Наконец он вошел к ней, и она встретила его. Она постанывала тихо, глаза ее блуждали. Он тяжелел над ней, голубовато темнея в свете ночника. И в малый этот миг ей опять мелькнуло: барсук у воды, иссиня-черный медведь, большой и жарко дышащий.
Как всегда в летнюю пору, вечер окутал дома разом, неуловимо быстро. А за городом, на холмах и в полях, выросли тени, сливаясь и овладевая пространством, и вот уже долину подернула серая тень. Но и сейчас широкою осталась цветовая гамма у земли — богаче даже, чем у неба, порумяневшего, начинающего гаснуть. Тона цветных скал и грунтов стали мягки, расплывчаты, и с листьев ушел блеск.
Кукурузным полем поползло шуршанье, и старик прислушался, не разгибаясь, держа руки на мотыге. Теперь он плохо видел землю междурядий, почти час уже вел борозду на ощупь, поверяя ее глубину мышечным ощущением входящей в грунт мотыги, а прямизну — прикосновеньем листьев и султанов кукурузы к локтям и шее. Пот на шее высох, и засохла в борозде грязь, а он все медлил разгибаться, отодвигая еще на минуту-две боль, которая пронижет поясницу и сведенные пальцы. Наконец с тяжким вздохом усилия он распрямил онемевшую спину, тверже поставил хромую ногу. Одновременно он разжал пальцы, и ручка мотыги легла на сгиб локтя. Осталось еще много чего сделать: надо чалых распутать — нагибаться снова, снимать путы натруженными пальцами; надо возиться с дышлом, постромками, вожжами, впрягать обеих лошадей в повозку; наносить потом воды в корыто, отделить прессованного сена, сколько надо каждой. Но он думал не об этом; он думал о кофе с хлебом и о темной тишине своей комнаты.
Но что там за шуршанье? Под кору его усталости проник звук и достиг слуха, невнятный, точно писк поклевки или зайчонка. В сумерках рождается ветер, длинные листы кукурузы клонятся и трутся, и в воздухе всюду шуршанье растений, отходящих ко сну. Но лиственный ли то слышался шорох? Весь день старик блуждал мыслями в прошлом, привычно, совершенно безотчетно, однако мозг оставался привязан к работе тонкой ниточкой внимания. Мерные, повторные, попятные шаги, взблески мотыги и бурая вода, неукоснительно подступающая следом, — вот та малая реальность, от которой отталкивалось и к которой неизбежно возвращалось сознание. Но теперь, с окончанием долгой работы, старческое тело отпустило мозг на волю, и внезапно ощутил старик присутствие чего-то чуждого поблизости. И так же внезапно понял, что оно уже давно здесь — не приближаясь, нависает в течение многих минут, целых часов, над полем и краем. Он затаил дыхание, прислушиваясь. В ушах звенело от усталости; ничего не слышно было, кроме мягкого шума воды и ветра, да где-то у дальней межи порхнула перепелка; затем фыркнули, тихо заржали чалые на соседнем поле, напоминая, что ему пора уже домой. Но что-то еще осязалось, обособленное, необычное, неслитное с полевой тишью: какие-то вдохи и выдохи, прошелестевшие и отшуршавшие, но и теперь, и дальше, неумолимо-неотступные. Он вгляделся в темнеющую кукурузу, откуда ничего не слышалось, где ничего ведь не таилось. Лишь густо-черная стена стеблей и листьев зыбилась в усталых глазах, как вода. Слишком стар он был, чтобы чувствовать страх. Неведомое и злое отзывалось в нем всего лишь глухою, глубинной печалью, смутным желанием плакать — ибо давно уж он не знал убежища и обороны от зла. Перекрестивши кукурузу, он поднял мотыгу на плечо. Заковылял к меже, где сумрак был светлее.
А там, где он стоял только что, подступила в борозде вода и перелилась через край. Растекшись по земле, она заполнила двойной ряд серповидных вмятин от его каблуков. Там и сям чернели на земле полоски грязи, отвалившиеся от лезвия мотыги. А вот и снова задышало — часто, взбудораженно-неровно. Над приоткрытым ртом подслеповатые глаза — следят, как старик уходит с поля, и голые веки моргают беспомощно за темными стеклами.