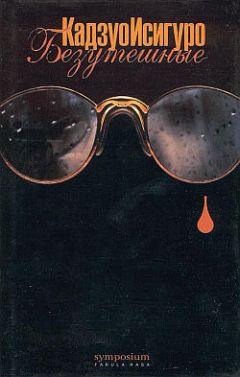— Боюсь, именно так это и выглядит. Особенно если человек смотрит на меня циничным взглядом.
— Надеюсь, вам не кажется, что я смотрю на вас таким взглядом? Я бы очень огорчился, узнав, что это так.
— Тогда вам следовало бы попытаться проявить чуть больше понимания. — Она обернулась и напряженно всмотрелась в мое лицо, прежде чем отвернуться снова. — Если бы были живы мои родители, они наверняка твердили мне, что давно пора выйти замуж. И наверное, были бы правы. Но я не хочу жить так, как, по моим наблюдениям, живут очень многие девушки. Я не собираюсь растрачивать свою любовь, всю энергию, ум — сколь скромны бы они ни были — на какого-нибудь бесполезного человека, посвящающего жизнь гольфу или торговле бондами в Сити. Я выйду замуж за кого-то, кто действительно вносит свой вклад. Я имею в виду, вклад в развитие человечества, в то, чтобы сделать мир лучше. Неужели это такое уж постыдное стремление? Я хожу на подобные вечера не затем, чтобы подцепить какую-нибудь знаменитость, Кристофер. Я ищу выдающихся людей. Ради этого можно иногда вытерпеть и некоторую неловкость? — Она махнула рукой в сторону зала. — Но я никогда не соглашусь с тем, что моя судьба — посвятить свою жизнь какому-нибудь милому, воспитанному, но с нравственной точки зрения бесполезному мужчине.
— Когда вы так говорите, — ответил я, — становится ясно, что вы мните себя ну почти избранной.
— В некотором роде, Кристофер, так и есть. Ах, что это играют? Что-то знакомое. Это Моцарт?
— Думаю, Гайдн.
— Конечно, вы правы. Да, это Гайдн. — Несколько минут она смотрела на небо и, казалось, слушала.
— Мисс Хеммингз, — сказал я наконец, — я вовсе не горжусь своим сегодняшним поведением. Можно сказать, теперь я даже сожалею о произошедшем. Извините меня. Надеюсь, вы меня простите.
Она продолжала смотреть в темноту, водя по щеке мундштуком.
— Очень любезно с вашей стороны, Кристофер, — тихо ответила Сара. — Но это мне следует принести извинения. В конце концов, я ведь хотела вас использовать. Конечно, хотела. Не сомневаюсь, я выглядела отвратительно, но это мне безразлично. Что мне небезразлично, так это то, что я плохо обошлась с вами. Возможно, вы не поверите, но это так.
Я рассмеялся:
— Ну, в таком случае давайте постараемся простить друг друга.
— Да, давайте. — Она повернулась ко мне, и лицо ее озарилось почти детской радостной улыбкой. Потом на него снова наползла тень усталости, и она опять устремила взгляд в ночную тьму. — Думаю, все из-за того, что я слишком тщеславна. И из-за того, что у меня осталось не так уж много времени.
— Давно ли вы потеряли родителей? — спросил я.
— Мне кажется, это случилось в незапамятные времена. Но в каком-то отношении они всегда со мной. Но взгляните, все расходятся. Какая жалость! А я хотела еще о многом с вами поговорить. Например, о вашем друге.
— О моем друге?
— Ну да, о человеке, о котором вы спрашивали сэра Сесила. Ну, о том, из Шанхая.
— Об Акире? Мы с ним не виделись с детства.
— Но он, судя по всему, очень много значит для вас. Я напрягся и посмотрел назад.
— Вы правы. Все действительно расходятся.
— Тогда, полагаю, и мне пора, а то мой уход будет замечен так же, как и прибытие, — сказала она, но не двинулась с места, и в конце концов я сам, извинившись, вернулся в зал.
Лишь один раз обернувшись, я подумал, что мисс Хеммингз похожа на статую женщины, курящей сигарету в ночи на балконе. У меня даже мелькнула мысль: не вернуться ли и не предложить ли проводить ее. Но ее вопрос об Акире немного насторожил меня, и я решил, что для одного вечера, чтобы исправить отношения, сложившиеся между мной и Сарой Хеммингз, сделал достаточно.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Лондон, 15 мая 1931 года
В глубине нашего сада в Шанхае был покрытый травой холм, на вершине которого рос одинокий клен. В то время, как нам с Акирой исполнилось по шесть лет, мы обожали играть на этом холме и вблизи него, и, когда бы я ни вспоминал теперь о друге своего детства, в моем воображении возникали два мальчика, бегающие по склонам того холма, а порой спрыгивающие с него там, где склон особенно крут.
Время от времени, запыхавшись, мы садились отдохнуть на вершине, прислонясь спинами к стволу клена. С высоты нам был хорошо виден весь сад и большой белый дом в дальнем его конце. Закрыв глаза, я живо вижу перед собой тщательно подстриженный «английский» газон, полуденные тени, отбрасываемые вязами, что отделяли наш сад от сада Акиры, и сам дом — огромное белое сооружение со множеством флигелей и забранных решетками балконов. Подозреваю, что лелеемая в памяти картина дома в значительной мере плод детского воображения и что на самом деле дом вовсе не был велик. Разумеется, даже тогда, в детстве, я сознавал, что он никак не может соперничать в великолепии с резиденциями, расположенными за углом, на Бабблинг-Вел-роуд. Тем не менее дом более чем удовлетворял потребностям его обитателей, то есть моих родителей, меня, Мэй Ли и слуг.
Он являлся собственностью компании «Баттерфилд и Суайр», вследствие чего многие украшения и картины, висевшие на стенах, мне было строго запрещено трогать. Это также означало, что время от времени в доме останавливался какой-нибудь «гость» — например, сотрудник компании, только что прибывший в Шанхай и не успевший еще обзавестись хозяйством. Не знаю, возражали ли мои родители против такого установления. Я же нисколько не был против, потому что «гостем» обычно оказывался молодой человек, вместе с которым в дом входила атмосфера английских лугов, какими они представлялись мне по «Ветру в ивах»[5], или тонущих в тумане улиц из детективных рассказов Конан Дойла. Эти молодые англичане, безусловно, желая произвести хорошее впечатление, позволяли мне задавать им бесчисленное количество вопросов, а иногда даже выполняли мои неблагоразумные просьбы. Многие из них, как мне представляется, были моложе, чем я теперь, и, впервые оказавшись вдали от дома, пребывали в растерянности. Но для меня в те времена все они были объектами пристального изучения и соперничества.
Однако вернемся к Акире. Была в нем некая особенность, которая вспоминается мне теперь в связи с тем днем, когда мы, разыгрывая одну из своих долгих драм, набегались, как сумасшедшие, вверх и вниз по холму и присели отдышаться под кленом. Я, стараясь успокоить дыхание, смотрел через лужайку на дом, и тут Акира, сидевший у меня за спиной, сказал:
— Осторожно, старих. Многоножка. Прямо возле твоей ноги.
Я отчетливо слышал, как он произнес «старих», но тогда не обратил на это внимания. Словечко, однако, Акире, судя по всему, очень понравилось, и в течение последующих нескольких минут, когда мы снова приступили к игре, он несколько раз повторил его: «Сюда, старих!», «Быстрее, старих!».
— Во всяком случае, не «старих», а «старик», — не выдержал я наконец, когда мы заспорили о том, как должно развиваться действие дальше.
Акира, как я и ожидал, яростно запротестовал:
— А вот и нет! Ничего подобного. Миссис Браун. Она заставлять повторять меня: старих, старих. Правильное произношение, всегда. Она говорить «старих». Она учитель!
Переубеждать его было бессмысленно: начав учить иностранный язык, он страшно гордился своим новым статусом знатока английской речи в семье. Но я не желал уступать, и в конце концов спор наш достиг такого накала, что Акира, не дожидаясь окончания игры, гордо удалился, кипя гневом, через «потайную дверь» — дыру в живой изгороди, разделявшей наши участки.
В течение нескольких последующих дней, когда мы играли вместе, он не называл меня «старихом» и не возвращался к предмету нашей ссоры. Я почти забыл о ней, когда через несколько недель, как-то утром, тема всплыла снова. Мы возвращались домой по Бабблинг-Вел-роуд мимо шикарных домов на прекрасных лужайках. Не помню, что именно я ему сказал, но он ответил мне:
— Очень мило с твоей стороны, старик.
Помню, как я боролся с искушением указать ему на свою правоту, потому что к тому времени достаточно хорошо знал Акиру, чтобы понимать: он говорит теперь «старик» не просто потому, что понял свою ошибку; неким странным образом мы оба понимали: он пытается мне внушить, будто именно он всегда настаивал на таком произношении — «старик», а теперь он лишь подтверждает свой аргумент, и отсутствие возражений с моей стороны свидетельствует о его окончательной победе. И действительно, до конца дня он продолжал называть меня «стариком», а лицо у него было такое, словно он хотел сказать: «Ну что, не будешь больше выставлять себя на посмешище? Рад, что ты образумился».
Такое поведение нельзя было назвать совершенно нетипичным для Акиры, но, хотя меня это всегда бесило, я редко удосуживался возражать ему. В сущности — мне и сегодня это трудно объяснить, — я испытывал некоторую потребность подыгрывать фантазиям Акиры, и, если бы кто-то из взрослых взялся быть арбитром в нашем споре по поводу «стариха», я бы сам, пожалуй, принял сторону Акиры.