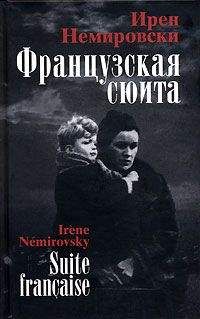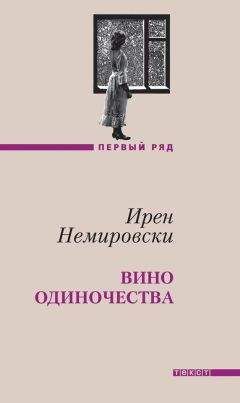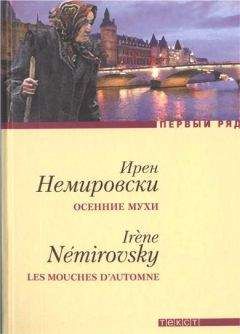— Послушай, нянюшка, что с тобой? Пора ехать. Что с тобой? — повторил он ласково и взял няню за руку.
— Ах, оставь, малыш, — простонала она, внезапно забыв, что давно уже обращалась к нему не иначе как «господин кюре» или «господин Филипп», и бессознательно говоря ему «ты» по старой памяти. — Оставь, говорю. Мы погибли, хороший мой!
— Что ты, не убивайся так, нянюшка, брось платки, одевайся и скорей выходи, мама ждет.
— Я никогда не увижу моих мальчиков, Филипп!
— Что ты, что ты, — твердил он, приглаживая растрепанные волосы старухи и водружая ей на голову черную соломенную шляпку.
— Ты помолишься хорошенько, чтоб Пресвятая Дева хранила моих деточек?
Он слегка прикоснулся губами к ее щеке:
— Да, да, обещаю. Пойдем же.
На лестнице им встретились шофер и консьерж, те поднимались за Периканом-старшим. Его до самой последней минуты не тревожили, оберегая от суматохи сборов. Огюст и санитар как раз одевали калеку. Старик не так давно перенес операцию. Поэтому носил особый бандаж. Чтобы ему не повредила ночная сырость, его заворачивали к тому же в широчайший, длиннейший фланелевый пояс, так что он походил на мумию. Огюст застегнул пуговицы на его старомодных ботинках, надел на старика тонкий свитер, затем пиджак. До сих пор Перикан-старший сидел неподвижно и молча позволял укутывать себя, словно старая деревянная кукла, но вдруг очнулся и подал голос:
— Шерстяной жилет мне!
— Вам будет жарко, сударь, — отозвался Огюст, не собираясь выполнять приказание.
Тогда хозяин вперил в него остекленелый взгляд бесцветных глаз и повторил чуть громче:
— Шерстяной жилет мне!
Его облачили в жилет. Потом в длинный плащ. Вокруг шеи дважды обернули теплый шарф и застегнули сзади английской булавкой. Усадив в инвалидное кресло, понесли вниз с пятого этажа. В лифт кресло не умещалось. Санитар, крепкий эльзасец с огненной шевелюрой, пятился по лестнице, с трудом удерживая тяжелую ношу на вытянутых руках. Огюст почтительно придерживал спинку кресла. Мужчины останавливались на каждой площадке, пот лил с них градом, а Перикан старший безмятежно озирал потолок, лишь его аккуратная бородка слегка подрагивала. Трудно было понять, что он думает об их внезапном отъезде. Между тем он осознавал происходящее гораздо лучше, чем предполагали окружающие. Он бормотал, пока его одевали:
— Ясная ночь, лунная ночь, я не удивлюсь, если…
Потом он впал в оцепенение и докончил фразу уже на лестнице:
— Я не удивлюсь, если по дороге мы угодим под бомбы!
— Ну что вы, господин Перикан! Придет же такое в голову! — возразил санитар заученным бодрым тоном.
Но глаза старика опять глядели бессмысленно и равнодушно. Наконец кресло выкатили на улицу. Перикана-старшего усадили в глубь машины, подальше от сквозняков. Невестка дрожащими от нетерпения руками укутала ему колени шотландским пледом, из длинной бахромы которого он любил плести косички.
— Все в порядке? — спросил Филипп. — Ну все! Уезжайте скорее!
«Хорошо еще, если они выедут из Парижа до рассвета», — подумал он.
— Дайте мне перчатки, — сказал старик.
Ему передали перчатки. Он с трудом натянул их на рукава пиджака и свитера. Перикан-старший не упустил ни одной мелочи. Вот теперь все готово. Эммануил вопил на руках у няни. Мадам Перикан обняла мужа и старшего сына. Она не плакала, но, когда прижимала их к груди, они чувствовали, как отчаянно бьется ее сердце. Шофер нажал на газ. Юбер оседлал велосипед. Тут Перикан-старший поднял руку.
— Минутку, — раздельно произнес тихий старческий голос.
— Что случилось, папа?
Он покачал головой в знак того, что не может сказать об этом невестке.
— Вы что-нибудь забыли?
Он кивнул. Шофер затормозил. Бледная от бешенства, мадам Перикан высунулась наружу и крикнула, обращаясь к стоящим на тротуаре господину Перикану, Филиппу и санитару:
— Кажется, папа что-то забыл!
Машина дала задний ход и остановилась у дверей дома. Старик стыдливо поманил к себе санитара и что-то шепнул ему на ухо.
— Да что же это такое! Сумасшедший дом! Так мы до завтрашнего дня не уедем! — возмущалась госпожа Перикан. — Что вам понадобилось, папа? Что ему нужно?
Санитар потупился.
— Господин просит поднять его наверх. Ему нужно кое — куда…
7
Шарль Ланжеле стоял на коленях на паркете посреди опустевшей гостиной и собственноручно упаковывал драгоценный фарфор. Он страдал ожирением и тахикардией, а потому тяжело дышал, почти хрипел. Кроме него, в квартире никого не было. Слуги, прослужившие у него более семи лет, разбежались в панике в то утро, когда парижане проснулись в дыму, что хлопьями пепла опускался на город. Якобы ушли за покупками, да так и не вернулись. Господин Ланжеле с горечью думал о том, что всегда платил им хорошее жалованье и щедро давал на чай; вот на эти-то деньги они, скорее всего, и купили себе домики, небольшие фермы в уединенном и тихом месте в родном краю.
Ему самому давно уже следовало уехать. Он готов был признать, что напрасно медлил, но главную роль тут сыграла его приверженность к давним многолетним привычками. Человек болезненный и брезгливый, господин Ланжеле в целом мире любил только свою квартиру и собрание редкостей, что теперь лежали перед ним на голом полу, — ковры он уже скатал, пересыпал нафталином и убрал в подпол. Все стекла он заклеил длинными полосами розовой и бледно — голубой бумаги. Белыми жирными пальцами Шарль Ланжеле искусно выложил на окнах бумажные узоры из кораблей, звезд и единорогов. Знакомые восхищались, а он так старался просто потому, что не выносил унылой пошлой обстановки. Его окружали изысканные вещицы, безделушки и подлинные сокровища, создавая особый стиль дома, удивительно приятную и радостную атмосферу, по сути единственную, в какой, по его мысли, мог находиться цивилизованный человек. Двадцатилетним юношей он носил на пальце кольцо с надписью внутри: «This thing of Beauty is a guilt for ever».[2] Господин Ланжеле и сейчас любил мыслить по-английски, поэтичность и мощь этого языка отвечали складу его души. Носить такое кольцо, конечно, — ребячество, и он давно избавился от нелепого украшения, но по — прежнему хранил верность девизу, запечатлев его в своем сердце.
Он приподнялся с колен и обвел пристальным горестным взглядом окна, выходившие на набережную Сены, изящную арку, что делила гостиную на две части, камин со старинной решеткой, высокий потолок, покрытый серебряными и зеленоватыми бликами, плясавшими, будто рябь на воде, — у балконных дверей свет смягчали длинные фисташковые шторы.
Время от времени звонил телефон. В Париже еще оставалось несколько нерешительных людей, что медлили с отъездом и надеялись, безумцы, на какое-то немыслимое чудо. Неторопливо, с тяжелым вздохом Шарль Ланжеле в очередной раз поднял трубку. Он говорил гнусавым невыразительным голосом, но с такой бесстрастной иронией, что узкий избранный круг его знакомых, исконных парижан, считал его манеру «неподражаемой». Да, он наконец решился и едет. Нет, он вовсе не испугался. Париж сдадут. И в других городах не лучше. Опасность повсюду, он бежит не потому, что здесь опасно. «На моей памяти это уже вторая война», — сказал он. Хотя в действительности войну четырнадцатого года пересидел в своем доме в Нормандии, поскольку не подлежал призыву как сердечник.
— Друг мой, мне уже шестьдесят, если я чего и боюсь, то не смерти.
— Тогда зачем вы уезжаете?
— Я не терплю беспорядка, выплесков ненависти, отвратительного зрелища бойни. Уеду пока в деревню. И поживу там спокойно на те гроши, что еще у меня остались, пока люди не образумятся.
Она в ответ насмешливо рассмеялась. Все считали его человеком скупым и предусмотрительным. О нем говорили: «За Шарли не беспокойтесь, в полы его заношенных курток зашиты золотые монеты». Он кисло и неприязненно улыбнулся. Знал, что его обеспеченная налаженная жизнь вызывает зависть у многих. Знакомая воскликнула:
— Ну, вы-то не пропадете. Жаль, что не каждый так богат.
Шарли нахмурился, по его мнению, ей недоставало такта.
— Куда же вы собрались?
— В свою развалюшку в Сибуре.
— Поближе к границе? — знакомая в самом деле утратила всякое чувство приличия.
Они распрощались холодно. Шарли вновь встал на колени перед ящиком, куда сложил почти весь фарфор, и, погрузив руку в солому, принялся гладить сквозь папиросную бумагу пиалы из Нанкина, севрские и веджвудские вазы. Их у него отнимут вместе с жизнью. Его сердце обливалось кровью: он не мог взять с собой саксонский туалетный столик с зеркалом, украшенным розами — музейная вещь, — он стоял у него в спальне. Бросить саксонский столик на растерзание бешеным псам! В горе Шарли опустился на пол и, сгорбившись, замер, на пол соскользнул и его монокль на длинном черном шнуре. Грузный, все еще сильный человек, хотя сквозь поредевшие с предельной аккуратностью расчесанные волосы уже проглядывала нежная розовая кожа. Привычное слащавое и недоверчивое выражение, какое бывает у котов, мурлычущих возле очага, исчезло с его лица. Накопившаяся за день усталость грубо исказила черты, нижняя челюсть отвалилась, будто у мертвого. Что там говорила эта зазнайка? Намекала, что он готовится сбежать за границу? Дура несчастная! Воображает, что задела его, пристыдила! А он и вправду сбежит. Ему бы только добраться до Андайе, границу он сумеет перейти! Ненадолго задержится в Лиссабоне и покинет гнусную, отвратительную, вымазанную кровью Европу. Она представлялась ему наполовину истлевшим, покрытым черными ранами трупом. Шарли передернуло от отвращения. Падаль ему не нужна. Мир, что рождается из вони разложения, как могильный червь, не для него. Грубый жестокий мир, где нужно кусаться, чтоб тебя не сожрали. Он посмотрел на свои холеные руки, которые никогда не трудились и никого не ласкали, лишь гладили статуи, старинные украшения, книжные переплеты и елизаветинскую мебель. Как может уцелеть посреди обезумевшей толпы Шарль Ланжеле с такой возвышенной утонченной деликатной натурой? Его ограбят, убьют, растерзают, как волки терзают бедную брошенную породистую собачку. Он горько улыбнулся одними губами, вообразив себя золотистым пекинесом, который заблудился в чаще. Он чужд людской своре. Глупые претензии, подлости, свары, страхи заурядных людей ему непонятны. В его особом мире царят покой и просвещение. Во внешнем мире все его ненавидят и обманывают. Он вспомнил предательство слуг и усмехнулся. Зловещие предупреждение, знамение, заря новой эпохи! Он с трудом распрямился — болели колени — и пошел в кладовую за гвоздями и молотком, чтобы заколотить крышку ящика. Он сам отнес тяжелый ящик в машину: консьержам необязательно знать, что именно он увозит с собой.