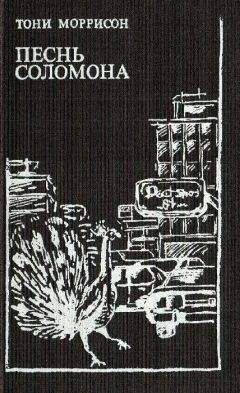— Второй приз? — переспросил Гитара. — Как это — второй? Тут одно из двух: или ты полмиллионный, или нет. Не может же выиграть следующий за полмиллионным.
— Может — если это Реба, — сказала Агарь. — Они только потому и придумали второй приз, что Реба оказалась первой. А кольцо ей дали только потому, что ее успели сфотографировать.
— Расскажи-ка им, как ты попала в магазин Сирса, Реба.
— Уборную искала. — Реба запрокинула голову, чтобы отсмеяться всласть. Ее руки были вымазаны соком ежевики, а утирая выступившие от смеха слезы, она оставила красные полосы на щеках. Реба была гораздо светлее, чем Пилат и Агарь, с бесхитростными ребячьими глазами. Собственно, все они выглядели простодушными, все три, но в лицах Пилат и Агари угадывалась какая-то значительность, сложность. И лишь уступчивая, ласковая Реба с прыщеватой светлой кожей выглядела так, словно ее простодушие, возможно, всего лишь пустота.
— В центре города есть только две уборные, куда пускают цветных: в ресторане «Мейфлауэр» и у Сирса. Сирс оказался поближе. Хорошо еще, мне не очень приспичило. Они меня продержали целых пятнадцать минут, записывали, как зовут да какой адрес, чтобы прислать это кольцо. А я совсем не хотела, чтобы они мне его присылали. Я все допытывалась: я на самом деле выиграла приз, по всем правилам? Я вам не верю, говорю.
— Право, стоило пожертвовать бриллиантовым кольцом, чтобы только от тебя избавиться. Ты там целую толпу собрала и, наверное, целый рой мух, — сказала Агарь.
— А что вы сделаете с этим кольцом? — спросил Молочник.
— Буду носить. Не часто мне удается выиграть такую штучку.
— Она все, что выиграет, все отдает, — сказала Агарь.
— Мужчинам… — добавила Пилат. — Ничего себе не оставляет…
— Только такой приз и хочется ей выиграть — мужчину…
— Прямо Санта-Клаус… Вечно всем подарки раздает.
— Если человеку везет по-дурацки, это даже и не везенье, а черт знает что…
— Санта-Клаус-то всего раз в год приходит… Странный получался разговор: и Агарь, и Пилат каждой новой репликой как бы дергали его нить в свою сторону, обращаясь главным образом к себе — не к Молочнику, и не к Гитаре, и даже не к Ребе, которая снова опустила кольцо в вырез платья и, тихо улыбаясь, проворно снимала с веточек темно-лиловые ягоды.
Молочник, который к этой поре достиг пяти футов семи дюймов роста, сейчас впервые в жизни ощутил, что он по-настоящему счастлив. С ним вместе друг — мальчик старше его, — умный, добрый и бесстрашный. Он сидит себе как дома в питейном заведении, пользующемся весьма печальной славой, окруженный женщинами, которым, судя по всему, доставляет удовольствие его общество и которые громко смеются. При этом он влюблен. Не удивительно, что отец их боялся.
— Когда будет готово это вино? — спросил он.
— Эта порция? Через несколько недель, — ответила Пилат.
— А нам попробовать дадите? — улыбнулся Гитара.
— Отчего же? Хоть сейчас. В погребе полно вина.
— Того вина я не хочу. Я этого хочу попробовать, которое я сделал сам.
— Ты считаешь, ты его сделал? — расхохоталась Пилат. — Считаешь, это уже все? Оборвать несколько ягодок с ветки?
— О-ой, — Гитара почесал в затылке, — я совсем забыл. Их еще нужно будет топтать босыми ногами.
— Ногами? — возмутилась Пилат. — Кто это делает вино ногами?
— Наверное, вкусно получается, мама, — сказала Агарь.
— А я думаю, гадость жуткая, — сказала Реба.
— А у вас хорошее вино, Пилат? — спросил Гитара.
— Чего не знаю, того не знаю.
— Это как же?
— Никогда его не пробовала. Молочник засмеялся.
— Продаете вино, а сами его даже не пробовали?
— Люди покупают вино не для того, чтобы его пробовать. Покупают, чтобы напиться.
— По крайней мере раньше покупали, — кивнула Реба. — Сейчас уж никто не берет.
— Кому она нужна, наша самогонка. Кризис-то кончился, — сказала Агарь. — Теперь у всех есть работа. Денег хватает, можно купить «Четыре розы».
— Многие и сейчас покупают, — возразила ей Пилат.
— А сахар где вы достаете? — поинтересовался Гитара.
— На черном рынке, — ответила Реба.
— Какие «многие»? Ты, мама, уж не сочиняй. Если бы Реба не выиграла эти сто фунтов бакалейных товаров, мы бы с голоду померли прошлой зимой.
— Не померли бы. — Пилат сунула в рот новую веточку.
— Еще как бы померли.
— Агарь, не надо спорить с мамой, — шепотом сказала Реба.
— Кто бы накормил нас? — не унималась Агарь. — Мама может прожить без еды несколько месяцев. Как ящерица.
— Ящерица так долго живет без еды? — спросила Реба.
— Что ты, девочка, никто не собирается морить тебя голодом. Разве ты когда-нибудь бывала голодной? — тревожно спрашивала внучку Пилат.
— Конечно, нет, — ответила вместо дочери Реба.
Агарь бросила еще одну веточку в кучку лежащих на полу общипанных веток и потерла пальцы. Их кончики были багрового цвета.
— Да, иногда я бывала голодной.
Пилат и Реба с быстротою птиц вскинули головы.: Они всматривались некоторое время в лицо Агари, затем переглянулись.
— Деточка, — проговорила Реба очень тихо. — Ты была голодной, детка? Почему же ты нам не сказала? — Она жалобно смотрела на дочь. — Мы приносили тебе все, что ты хотела, детка. Все, что ты хотела. Ты ведь знаешь это и сама.
Пилат выплюнула веточку на ладонь. Лицо ее застыло в неподвижности. Сейчас, когда губы перестали наконец шевелиться, ее лицо напоминало маску. Будто кто-то вдруг выключил свет, подумал Молочник. Он всмотрелся в лица всех трех женщин. Лицо Ребы сморщилось. По щекам струились слезы. Неподвижное, как смерть, лицо Пилат выражало в то же время напряженность, словно в ожидании какого-то знака. Пышные полосы прятали профиль Агари. Она сидела, наклонясь вперед, прижав локти к бедрам и потирая пальцы, которые в наступающих сумерках казались вымазанными в крови. У нее были очень длинные ногти.
Молчание затянулось. Прервать его не рисковал даже Гитара.
Потом Пилат сказала:
— Реба. Она не про еду.
Как видно, Реба сперва не поняла, потом лицо ее медленно прояснилось, но она ничего не сказала. Пилат снова принялась обрывать ягоды, тихонько что-то про себя напевая. Вскоре Реба присоединилась к ней, и какое-то время они напевали вместе в унисон друг другу, а затем Пилат запела:
О, Сладкий мой, не покидай меня,
Боюсь я в хлопке задохнуться,
О, Сладкий мой, не покидай меня,
Вдруг руки Бакры на мне сомкнутся…
Когда обе женщины запели хором, Агарь подняла голову и тоже запела:
О, Сладкий мой, ты улетел,
О, Сладкий мой, уплыл, ушел,
О, Сладкий мой, небо пронзил,
Сладкий ты мой, уплыл домой.
У Молочника перехватило дыхание. Голос Агари подхватил и унес те обломки сердца, которые он мог до этого мгновения еще назвать своими. И когда ему показалось, что он теряет сознание, раздавленный бременем чувств, он робко покосился на приятеля и увидел, как лучи заходящего солнца золотят глаза Гитары, оставляя в тени лукавую полуулыбку.
Восхитительные события этого дня приводили еще в больший восторг Молочника, оттого что им сопутствовала таинственность и ощущение собственной дерзости; впрочем, и таинственность, и дерзость испарились спустя час после того, как домой возвратился отец. Фредди известил Мейкона Помера, что его сын «нынче пьянствовал в питейном заведении».
— Врет он! Мы ничего не пили! Ничего. Гитара попросил стакан воды, но и воды ему тоже не дали.
— Фредди никогда не лжет. Он искажает факты, но не лжет.
— Нет, он тебе наврал.
— Насчет того, что вы там пьянствовали? Возможно. Но вы ведь были там, это правда, да?
— Да, сэр. Это правда. — Молочник взял тоном ниже, но что-то в его голосе еще напоминало о недавнем мятеже.
— А что тебе было велено?
— Ты мне сказал, чтобы я не смел туда ходить и разговаривать с Пилат.
— Верно.
— Но ты не объяснил мне почему. Они наши родственники. Пилат — твоя родная сестра.
— А ты мой родной сын. И будешь делать то, что я тебе велю. С объяснениями или без объяснений. Пока я тебя кормлю, ты будешь делать то, что тебе сказано.
В пятьдесят два года Мейкон Помер выглядел не менее внушительно, чем десять лет назад, когда Молочник считал, что выше и крупнее его папы не существует ничего на свете. Даже дом, в котором они жили, казалось ему, был меньших размеров. Но сегодня он встретил женщину, такую же высокую, и, стоя рядом с ней, почувствовал, что он и сам высок.
— Я понимаю, я самый младший в семье, но я все же не грудной младенец. А ты со мной обращаешься, будто с младенцем, твердишь все время, что не обязан мне ничего объяснять. И чего ты этим добился, как ты думаешь? Что я чувствую себя младенцем, вот и все. Двенадцатилетний младенец!