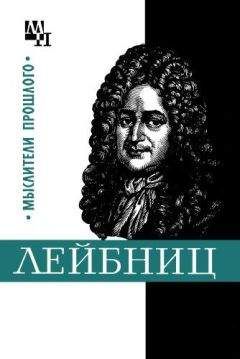Глава вторая, где генерал Афсиомский принимает филозофа Д'Аламбера и где становятся очевидными пользительные свойства орехового масла
Прошло три дня после толь же блистательного, коль и скандального театрального триумфа, прежде чем генерал Афсиомский паки узрел Вольтера. Газетные слухи тем временем своими лепостями и нелепостями обескураживали посланника:
«Король принял Поэта в Версале и после двухчасовой беседы подарил ему свой собственный письменный набор»,
«Король и кардинал приказали связать Вольтера и вывезти его за пределы Франции, где турки только и ждут, чтобы посадить его на кол»,
«Луи Пятнадцатый внял мольбам умирающей от чахотки мадам де Помпадур и вновь назначил творца „Генриады“ своим придворным историографом»,
«Великий Вольтер в третий раз препровожден в Бастилию, на этот раз без предметов своего домашнего обихода»,
«Русская царица устами своего представителя, только что прибывшего в Париж генерала (по имени не назван) предлагает за французского гения миллион ливров выкупу»,
«Французский двор просит больше»…
Слухи эти в арендованный генералом особняк на острове Сан-Луи еще до выхода в печать доставлял его секретарь, премьер-майор Дрожжинин, прямо из кафе «Прокоп», где, по всей вероятности, и всходило все это тесто. Ксенопонт Петропавлович внимал слухам и думал: уж не сам ли Вольтер их заквашивает в сем вечно взбухающем слухами граде, ведь такие слухи стоят сундука золотых пиастров, господа; вот именно, пиастров, пиастров! Сам он в ожидании весточки от друга подолгу сиживал в покойном кресле у окна и взирал на проходящие мимо воды Сены, что именем своим тревожила его вельми далекие рязанские воспоминания, а в частности, напоминала буколику зарождения иных плодотворных наследий.
***
На ночном торжестве в отеле Сюлли генералу удалось удачно выбрать позицию, чтобы ненароком, под видом обмена кумплиментарными благообразностями шепнуть в живое ухо старика, что при нем на имя филозофа прибыло конфиденциальное послание из Царского Села. Эко как полыхнули очи Вольтера, не дашь ему и пятой части хронологического возраста! Быстрым разумом своим он мигом оценил исключительность сей экспедиции и, чтобы сбить с толку востроухих слухачей правительства, тут же запустил вдохновенную тираду об исторических шагах Санкт-Петербургской академии в сторону просвещения, о достойных всяческих похвал достижениях ученых россиян, и, в частности, пейзанина месье Ломоносова: а правда ли, что славное имя переводится на язык Корнеля: «comme casse le nez»? — ax-xa-xa, клянусь Мельпоменой, иные носы в наш век заслуживают доброй ломки! — и таковыми изящными молниеносностями дал понять старому другу Ксено, что серьезный разговор впереди.
***
Между прочим, по воле чистого случая дом для пребывания графа Рязанского был взят внаем на той же набережной, где с его подопечными уношами случилась первая парижская облискурация. Внедряясь далее в подробности, скажем, что он был просто вплотную с тем малоприятным лежалищем антивольтеровского сутяги. Полагая себя в аристократическом квартале, граф с недоумением внимал всяческим шумам и воням, доносившимся из поблизости, а однажды прямо в окно к нему одним махом влетел ворох желтых от старости перьев из вытряхнутой подушки.
Не подлежит исключению, что выбор сей случился опять же по вине недотеп из секретной экспедиции. Вот так же тридцать лет назад вечно опохмеляющиеся «витязи незримых поприщ» выписывали графу подорожную и намотали там несусветное отчество Петропавлович, поелику батюшку-то в сем заведении звали во все времена Петром Павловичем. Да если уж всю правду речь, ведь и крестное имя извратили почти до утраты смысла путем замены «ф» на «п», а с фамилией и вообще получился сущий куршлюз: сроду ведь фита в подобных позициях не фигурировала, а уж польское-то окончание целиком остается на совести опохмеляющихся. Вот так в конечном счете и образовался в российской и европейской истории некий феномен по имени Его Высокопревосходительство генерал-аншеф Ксенопонт Петропавлович Афсиомский (через фиту), его светлость граф Рязанский. Прочтя впервые это начертание, генерал было весь вызверился, поклялся устроить полную обчистку проклятой конторы, но потом решил, что подобная облискурация (это было его словечко) легче будет выделять ея носителя в исторических анналах.
С историей у графа были весьма сурьезные отношения. Льзя ли будет предположить, что без нея он себя не мыслил, что мнил себя только как деятель оной, а будучи хоть ненадолго выдвинут за ея (напоминаем, истории) пределы, становился не ахти как здоров, нервозен, отчасти уж не злобноват ли ко всему роду человеческому. Вот и сейчас, пребывая аж третий день вне истории, он начинал мизантропствовать. Ох уж этот «большой свет», нельзя на него положиться ни дома, ни тем паче в Париже! Экий почет выказали во дворце Сюлли, экое произошло изрядное, поистине историческое шествие посреди блистательной ассамблеи, а теперь, извольте, любимец общества, контде Рязань всеми напрочь забыт, никто не ищет, не делает визитов, не приглашает. Значит, если сам не делаешь визитов, никто и не вспомнит, невзирая на триумф? Значит, надо все время не ходить, а дефилировать? Вот появляется небезызвестный друг Вольтера, Ксен’о де Рязань, вот он дефилирует, слегка по-светски покашливая, dйfiler et tousser, по своему обыкновению, дефиле и туесе, туесе и дефиле, и все в восторге, все счастливы, что снова появился со своим «туесе и дефиле», со своим прекурдефляпистым франсе, с кумплиментами а-ля Вольтер, а если тебя в таком виде не видно, значит, ты забыт, немедля стерт, так? Как сказал бы тот же Вольтер: Il faut sans cesse tourner aux fourmiliиre, мой Ксено, ведь даже муравьи забывают друг друга, если долго не встречаются.
Натюрельман, при других, не столь важных, государственных обстоятельствах надо б было сразу самому начать делать визиты и министрам, и префекту, и епископам, а главное, дамам, и Помпадур, и герцогине Мэнской, увы, увы, до встречи с основной, озаглавленной самой Государыней персоной он не может не только высшим блюстительницам света делать визиты, но и к малышке Нинон не поспешит наведаться. Значит, такая идет полоса истории: одиночество, выжидание. Он сидит в покойном кресле из тех, что в будущем будут называться «вольтеровскими», и созерцает в окне катящие с монотонной настырностью воды Сены. Ну почему хотя бы уж бумаги не спросить, не очинить перьев, не двинуть дальше задуманную утопию, герой коей некий Ксенофонт Василиск в поисках Гармонии уже и Землю покинул, унесся на Луну, однако и там не может сыскать неуловимую деву. Так он бродит там средь лунных ям, и везде население с ним делится своими терзаниями сродни нашим, как на Востоке, так и на Западе, и только на сатурнических кольцах цветет благодатное славянское царство под мудрым оком девы Гармонии; да как туда добраться супротив притяжения светил?
Нет, сударь мой, такое важнейшее для всего человечества (часто вместо сего красивого слова он почему-то выборматывал «пчеловодство») сочинение нельзя продолжать в чужом наемном доме. Вот завершу свою историческую ролю и засяду где-нибудь в Царском, в окрестностях Государыни, и первым делом ей самой буду направлять главы, а вовсе не псевдодругу Сумарокову Александру, как его отчество, вовсе не в нынешние плачевныя литературы.
Так он сидел день заднем и только гонял секретарей Дрожжинина и Зодиакова за сплетнями, за газетой, за напитком «тизан», за бутылью орехового масла. В этом чертовом масле, быть может, только и было хоть малое, но оправдание историческому сидению. Его предписывали втирать в корни оставшихся волос, и тогда траченое поле вроде бы начинало паки колоситься. Граф, однако, догадывался, что плодородие тут может пойти гораздо глубже энтих присной памяти, почти незримых луковок и в конечном счете приведет голову тела к рождению важных фраз государственного и литературного характера.
Однажды он увидел в окне плывущее по течению всеми четырьмя ногами кверху раздутое туловище коровы. Глядя на бессмысленность сего неживого предмета, он вдруг преисполнился скорби. Дохлая корова уплывала в пучины мироздания с той же каменной тайной, с коей четыре года назад уплывала над траурным конвоем незабвенная цесаревна-императрица Елизавета Дщерь Петрова, та, что запретила казнить, что пошила себе пятнадцать тысящ платий, что победоносничала в Семилетнюю войну и чьи горячие ляжки, оседлавшие его в студеную ночь 1740 года, еще помнили гренадерские плечи. Как прикажете это понимать, месье Ореховое Масло? — гневно вопрошал он. К чему вы меня толкаете? К каким излияниям гиньоля? Не к сущему ли богохульству, непригодному для государственного мужа?
Он гневно встал и потребовал парик. Немедленно ехать, делать визиты! Вольтер небось давно уже укрылся в своем Ферне под защитой кальвинистов. Кто его знает, что он тут без меня натворил! Ведь было же время, когда два государя Европы подозревали его в шпионстве, а лучший ученик, коего в те времена паче для недосказанности именовали «протектором господина Мапертюи», приказал бросить учителя в узилище. Нет, сам я туда не поскачу, не хватало еще нарваться на приживала Шувалова Ивана Ивановича. Надо немедля слать к нему Николая и Михаила! Хватит уже брандахлыстничать по Парижу со своими курфюрстиночками-профурсеточками! Ну что за дети эти ребенки, повадились в циркусы да к италийским кукольникам! Пора за дело!
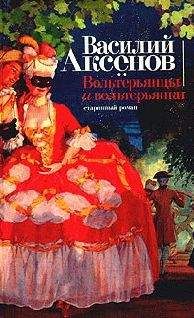
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/108530/108530.jpg)
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/107258/107258.jpg)