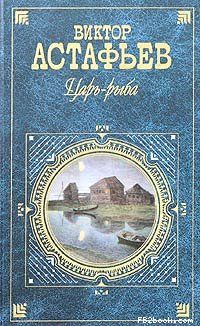Идти сделалось легче. Чернолесье, тальники, шипица, боярышник, таволожник и всякая шарага оробели, остановились перед плотной стеной тайги и лишь буераками, пустошами, оставшимися от пожарищ, звериными набродами, крадучись пробирались в тихую прель дремучих лесов.
Опариха все чаще и круче загибалась в короткие, но бойкие излучины, за каждой из которых перекат, за перекатом плесо или омуток.
Мы перебредали с мыса на мыс, и кто был в коротких сапогах, черпанул уже дух захватывающей, знойно-студеной воды, до того прозрачной, что местами казалось по щиколотку, но можно ухнуть до пояса. Коля предлагал остановиться, сварить уху, потому что солнце поднялось высоко, было парко, совсем изморно сделалось дышать в глухой одежке — защите от комаров. Они так покормились под шумок, что все лицо у меня горело, за ушами вспухло, болела шея, руки от запястий до пальцев в крови.
Уперлись в завал.
— Дальше, — сказал Коля, — ни один местный ханыга летом не забирался, — и покричал Акима. Отклика не последовало.
— Вот марал! Вот бродяга! Парня замучает, Тарзана ухайдакает.
В могучем завале, таком старом, вздыбленном, слоеном, что местами взошел на нем многородный ольховник, гнулся черемушник, клешнясто хватался за бревна, по-рачьи карабкался вверх узколистый краснотал и ник к воде смородинник. Речку испластало в клочья, из-под завала там и сям вылетали взъерошенные, скомканные потоки и поскорее сбегались вместе. Такие места, хотя по ним и опасно лазить — деревья и выворотни сопрели, можно обвалиться, изувечиться, — никакой «цивилизованный» рыбак не обойдет.
Я забрался в жуткие дебри завала, сказав ребятам, чтоб они стороной обходили это гиблое место, где воду слышно, да не видно и все скоргочет под ногами от короедов, жуков и тли.
Меж выворотней, корневищ, хлама, сучкастых стволов дерев, слизанных водою бревен, нагромождения камней, гальки, плитняка темнели вымоины. Вижу в одной из них стайку мелочи. Хариус выпрыгивает белым рыльцем вверх, прощупывает мусор и короедами точенную древесную труху. Иной рыбехе удается поддеть губой личинку короеда либо комара, и она задает стрекача под бревна, вся стайка следом. Один рукав круто скатывается под бревно, исчезает в руинах завала, и не скоро он, очумелый от темноты и тесноты, выпутается из лесного месива. Осторожно спускаю леску с руки, и, едва червяк коснулся воды, из-под бревна метнулась тень, по руке ударило, я осторожно начал поднимать пружинисто бьющуюся на крючке рыбину.
Пока вернулся Аким с компанией, едва волочившей ноги, так он ушомкал ее, бегая по Опарихе, я вытащил из завала несколько хариусов, собрался похвастаться ими, но пана открыл свою сумку, и я увидел там таких красавцев ленков, что померкли мои успехи, однако по количеству голов сын обловил Акима, и он великодушно хвалил нас:
— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Пана, се за рыбаки понаехали! Сзади, понимас, идут и понужают, и понужают! Тихий узас!
Я заверил друзей-хануриков, что со своей нахальной снастью они ничего, кроме коряжины иль старого сапога, в местах обетованных не выудят.
— А мы туды и не поедем, раз такое дело! — в голос заявили сельдюки. Колю я тоже звал сельдюком, потому как вся сознательная жизнь его прошла на Севере и рыбы, в том числе и туруханской селедки, переловил он уйму, а тому, сколько могут съесть рыбы эти мужички-сельдючки величиной с подростков, вскоре стали мы очевидцами.
Аким умело, быстро очистил пойманную рыбу. Я подумал, подсолить хочет, чтобы не испортилась. Но, прокипятив воду с картошкой, пана всю добычу завалил в ведро, палкой рыбу поприжал, чтоб не обгорели хвосты.
— Куда же столько?
— Нисе, съедим! Проходилися, проголодалися.
Это была уха! Ухи, по правде сказать, в ведре почти не оказалось, был навар, и какой! Сын у меня мастак ловить рыбу, но ест неохотно. А я уж отвык от рыбного изобилия, управился с пяток некрупных, ножных хариусов и отвалился от ведра.
— Хэ! Едок! — фыркнул Аким. — Ты на сем тако брюхо держишь?
Вывалив рыбу на плащ, круто посолив ее, сельдюки вприкуску с береговым луком неторопливо подчистили весь улов до косточки, даже головы рыбьи высосали. Я осмотрел их с недоверием наново: куда же они рыбу-то поместили?! Жахнув по пятку кружек чаю и подмигнув друг дружке, сельдюки подвели итог:
— Ну, слава богу, маленько закусили. Бог напитал, никто не видал.
— Вот это вы дали!
— На рыбе выросли, — сказал Коля, собирая ложки, — до того папа доводил, что, веришь — нет, жевали рыбу без хлеба, без соли, как траву…
— Как не поверить! Я ведь нашему папе сродни…
Аким, почуяв, что нас начинают охватывать невеселые воспоминания, поднял себя с земли, зевнул широко, обломал конец удилища, смотал на него леску, взял вещмешок, сбросал в него лишний багаж и, заявив, что такую рыбалку он в гробу видел и что лодку без присмотра на ночь нельзя оставлять, подался вниз по речке, к Енисею.
Мы еще поговорили у затухающего костерика и уже неторопливо побрели вверх по Опарихе. Чем дальше мы шли, тем сильнее клевала рыба. Запал и горячка кончились. Коля взял у меня портфель, отдал рюкзак, куда я поставил ведро, чтоб хариусы и ленки не мялись. У рыбы, обитающей в неге холодной чистой воды, через час-другой «вылезало» брюхо. Тарзан до того наелся рыбой и так подбил мокрые лапы на камешнике, что шел, пьяно шатаясь, и время от времени пьяно же завывал на весь лес, зачем, дескать, я с вами связался? Зачем не остался лодку сторожить? Был бы сейчас с Акимкой у стана, он бы со мной баловался, и никуда не надо топать. Кукла-работница лапок не намочила, шла верхом, мощным лесом и только хвостом повиливала, явившись кому-нибудь из нас. Где-то кого-то она раскапывала, нос у нее был в земле и сукровице, глаза сыто затуманились.
Когда-то здесь, на Опарихе, Коля стрелял глухарину, и молодая, только что начинавшая охотничать, собака дуром кинулась на глухаря. Тот грозно растопорщился, зашипел и так долбанул клювом в лоб молодую сучонку, что она опешила и шасть хозяину меж ног. Глухарь же до того разъярился, до того ослеп от гневной силы, что пошел боем дальше, распустив хвост и крылья. «Кукла! Да он же сожрет нас! — закричал Коля. — Асю его!» Кукла хоть и боялась глухаря, хозяина ослушаться не посмела, обошла птицу с тыла, теребнула за хвост. С тех пор идет собачонка на любого зверя, медведь ей не страшен, но вот глухаря побаивается, не облаивает, если возможно, минует его стороной.
Опариха становилась все быстрей и сумрачней. Реденько выступал мысок со вбитым зеленым чубом листвы или в зарослях осоки. Кедры, сосняки, ельники, пихтовники вплотную подступали к речке. Космы ягелей и вымытых кореньев свисали с подмытых Яров, лесная прель кружилась над речкой, в носу холодило полого плывущим духом зацветающих мхов, в горле горчило от молодых, но уже пыльно сорящих папоротников, реденькие лесные цветы набухали там и сям шишечками, дудочник шел в трубку. В иное лето цветы и дудки здесь так и засыхают не расцветя.
Отошли семь-восемь километров от Енисея, и нет уже человеческого следка, кострища, парубок, пеньков — никакой пакости. Чаще завалы поперек речки, чаще следы маралов и сохатых на перетертом водою песке. Солнце катилось куда-то в еще более густую темь лесов. Перед закатом освирепел гнус, стало душнее, тише и дремучей. Над нами просвистели крохали, упали в речку, черкнув по ней отвислыми задами и яркими лапами. Утки огляделись, открякались и стали выедать мелкого хариуса, загоняя его на мелководье.
Я взглянул на часы, было семь минут двенадцатого, и улыбнулся про себя — мы отстояли четырнадцатичасовую вахту, и не просто отстояли, продирались в дебри где грудью, где ползком, где вброд; если бы кого из нас заставили проделать такую же работу на производстве, мы написали бы жалобу в профсоюз.
Коля выбрал песчаный опечек и пластом упал на него. Хотя обдувья не было — так загустела тайга вокруг, по распадку угорело виляющей речки все же тянуло холодком, лица касалось едва ощутимое движение воздуха, скорее дыхание тайги, одурманенное доцветающей невдалеке черемухой, дудками дедюльников, марьиного корня и папоротников.
Пониже мыска, у подмытого кедра, динозавром стоявшего на лапах в воде, полосами кружилось уловце, маячила над ним тонкая фигура сынишки — там уже три раза брал и сходил «здоровенный харюзина»!
Я крикнул сына, и он с сожалением оставил недобытого хариуса. Мы свалили кедровую сухарину, раскряжевали ее топором. И вот уж кипяток, запаренный смородинником и для крепости приправленный фабричным чаем, напрел, запах. Брат лежал на опечке вниз лицом, не шевелясь. Я налил в кружку чаю, потрогал брата за плечо.
— Сейчас, — не поднимая головы, отозвался он и сколько-то времени еще полежал, вслушиваясь в себя. С трудом приподнялся, сел, потирая ладонью левую половину груди. — Тайга-мама заманила, титьку дала — малец и дорвался, сам себе язык откусил…
Чай подживил Колю. Он прилег на бок, уперся щекой в ладонь, слушал тайгу-маму — она отодвинулась от всех шумов, шорохов, отстранилась от всякого движения и отчужденно погружалась в самое себя, в хвою, в листья, в мох, в хлябистые болота. Было слышно птицу, где-то за версту неловко и грузно садившуюся в дерево; жуков, орехово щелкающихся о стволы, крохалей, озадаченных костром, ярче и ярче в сумерках светящим, и коротко по этому поводу переговаривающихся; падение прошлогоднеи шишки, сухо цепляющейся за сучки; короткий свист бурундука и чем-то потревоженную желну, заскулившую на весь лес, при крике которой сморщило губы брата улыбкой, и мы с сыном тоже заулыбались, вспомнив о приключении хануриков-друзей на Сурнихе. Но все вокруг уняло журчанием берестяного пастушьего рожка, почти сливающегося с чурлюканьем речки в перекате и все же отдельным от него, нежным, страстным, зовущим.