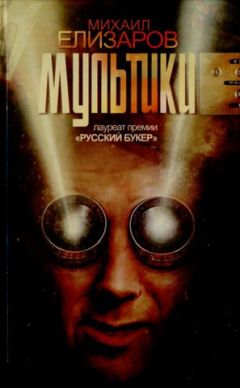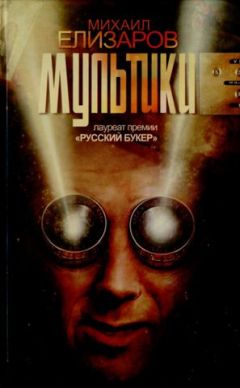Я чуть успокоился. Было, конечно, обидно, что именно меня угораздило попасться, но с другой стороны, я сознавал, что совершил в каком-то смысле подвиг, ценой своей свободы спас друзей. Я чувствовал себя героем-партизаном в плену у полицаев.
— И что, много денег зашибали? — добродушно спросил меня Усы Подковой и по-приятельски толкнул локтем.
— Я не понимаю, о чем вы говорите, — отозвался я ноющим голосом. — Меня мама дома ждет…
— Ага, — веселясь, сказал водила старлею. — Такого бандюгана небось уже баба дома ждет, а не мама!
Менты заулыбались. В машине они не казались страшными, а выглядели как обычные дворовые дядьки, что по вечерам забивают «козла».
— Я не бандит, я в восьмом классе учусь. Дяденьки милиционеры, отвезите меня домой! Мама очень волнуется!
— Твой дом — тюрьма! — вдруг сказал Усы Подковой голосом актера Папанова. Менты грянули заразительным смехом.
Ободренный их весельем, я продолжал:
— За что в тюрьму?! Я ничего плохого не сделал! Вы что, поверили этому странному гражданину в шапке с помпоном? Он все врет. Отпустите меня!
— С дружками людей грабил? — Старлей загнул палец. — Грабил. И не просто, — он загнул второй палец, — а с особым цинизмом!
На этих словах Усы Подковой изобразил руками перед собой два пышных женских объема. Водила аж захрюкал от смеха.
— И еще прибавь ношение и наверняка применение холодного орудия. — Сухомлинов выразительно похлопал себя по карману, где лежал злосчастный вентиль.
— Никого я не грабил! — вступился я за себя. — И не было у меня оружия! Я гулял!
— Хорошо так погулял! У одного пожилого ветерана войны вообще от этих фокусов инфаркт случился! — хмыкнул Усы Подковой.
— Не ваших ли рук, пардон, сисек дело?! — саркастично уточнил старлей, и все засмеялись.
— А умер ветеран-то? — с преувеличенной серьезностью спросил Сухомлинов. — Если умер — так на тебе еще и убийство! На полжизни, хлопчик, в колонию загремишь!
— Так что если совсем по-честному, — благодушно улыбнулся старлей, — влип ты, парень, по самое не хочу!
Нет, я понимал, что менты больше шутят и запугивают, но даже разделив эти шуточные угрозы на десять, в остатке я получал серьезные неприятности.
— Как твоя фамилия? — Старлей раскрыл планшетку.
— Иванов… — буркнул я.
— Фамилия? — строго переспросил он.
— Петров…
— В третий раз Сидоровым назовется! — возмутился Сухомлинов.
— Выступает… — произнес торжественным дикторским голосом Усы Подковой, — сионист Пидоров! Извиняюсь, пианист Сидоров!
Салон «пятерки» сотрясло от хохота. Старлей поглядел на меня с хитрой улыбкой:
— Я ведь так и запишу, что «Пидоров». Я не шучу, потом в документах и останется. Вот я тебя сейчас как отвезу в следственный изолятор, проще говоря, в тюрьму, а там с такой-то фамилией — ого-го!..
Водила снова захрюкал, прикрываясь рукавом.
— Лучше сразу настоящую называй… — продолжал старлей. — Что? Пидоров писать? — Он занес ручку. — Ладно, пишу… Пи…до…
— Рымбаев, — поспешно признался я. Конечно, я не был настолько наивным, чтобы поверить, что человека можно так запросто отвезти в тюрьму или записать Пидоровым. Я бы все равно, чуть покуражившись, назвал свою настоящую фамилию. Я только лишний раз поразился, каким простейшим способом меня вынудили говорить правду.
— Рымбаев, — записал старлей. — Чурка, что ли? Шучу… Имя-отчество?
— Герман Александрович.
— Александрович… Год рождения? Домашний адрес? Номер школы? — один за другим сыпались вопросы. Я неохотно отвечал и глядел, как подвешенный к зеркалу на лобовом стекле дергается крохотный скелет-висельник.
Узнав необходимое, старлей захлопнул планшетку и бросил ее в бардачок.
— Ну и куда вы меня везете? — поинтересовался я.
— Насчет тюрьмы — это, разумеется, шутка. А вот в детскую комнату милиции доставить тебя придется. Ну что, Герман, — он усмехнулся, — ты рад? — И менты заливисто расхохотались. Я понял, что они заранее знали, куда меня везти, только издевались.
— А ты что думал, — похлопал меня по плечу Усы Подковой, — в следственный изолятор повезем? Нет, брат, у тебя дело серьезное. — Он подмигнул. — С особым цинизмом. Такими рецидивистами у нас исключительно Детская комната милиции занимается!
Очевидно, от нервного потрясения на меня снизошла какая-то отвага и гибельное чувство юмора. После каждой моей фразы менты буквально покатывались со смеху. Водиле даже пару раз напомнили, чтоб он не ржал, а смотрел на дорогу.
— Товарищ страшный, ой, я хотел сказать — старший лейтенант! — кривлялся я. — Ну, отпустите! Я хороший послушный мальчик! Я собираю макулатуру и металлолом! Я отличник и тимуровец! Ну, товарищ страшный лейтенант!
— Страшный лейтенант! — заходился смехом Усы Подковой. — Страшный! Ну, сказанул!
Ободренный хохотом, я продолжал:
— А хотите анекдот расскажу?
— Давай, валяй! — утирал выступившие слезы старлей.
— Значит, Рейган прислал Горбачеву подарок на день рождения — огромный лимузин и к нему записка: «Это сюрприз. Багажник открывать только в чистом поле». Ну, Горбачев поехал в поле, открыл, а из багажника выскочила голая девка. Горбачев бегал за ней, бегал — не догнал. И тоже посылает он Рейгану подарок. Черная «Чайка» и записка: «Багажник открывать в чистом поле». А Рейган заперся в гараже, закрыл все окна, щели законопатил. Открывает багажник, а оттуда вылазит здоровенный волосатый грузин голый и говорит, потирая руки: «Ну, што, дарагой? Пабэгаем?!»
— Веселый хлопчик, — сказал, отсмеявшись, Усы Подковой, — даже жалко его. Товарищ страшный, — тут он хохотнул, — может, отвезем все-таки к нам в отделение? Там оформим, а?
— Нет, — отмахнулся старлей. — Не наша забота. В Детскую комнату!
— Ну, извини, Герман, — развел руками Усы Подковой. — Выходит, судьба твоя такая.
— Судьба… — повторил Сухомлинов и почему-то вздохнул.
Менты вдруг посерьезнели и остаток дороги уже не шутили. Да и мне тоже было не до смеха. Значит, Детская комната милиции. Меня там поставят на учет. В школу придет соответствующая бумага. Я вообразил, как злорадно будет потирать руки Галина Аркадьевна, получив официальную возможность поквитаться со мной за любимчика Алферова. Еще бы, ее прогнозы оправдались: Рымбаев — преступник, которого следует немедленно отчислить из нормальной школы. Я представил огорченное и растерянное лицо отца, заплаканные глаза матери, муторный запах корвалола по квартире…
«Ну и пусть, — угрюмо думал я. — Перейду в другую школу, в двести тридцать восьмую, где Шайба. Там как-нибудь доучусь до конца года. Буду осторожным, подтяну успеваемость, а потом подамся в радиотехнический техникум, и все забудется…»
Вскоре машина подкатила к девятиэтажному зданию, облицованному светлой плиткой — жилому дому так называемой «улучшенной планировки» с высоким первым этажом, в котором располагался продуктовый магазин. У нас на районе тоже был такой «улучшенный» дом.
— Приехали. — Старлей потянулся к бардачку за планшеткой. — Не обессудь, Герман, — сказал он чуть извиняющимся тоном, — но придется надеть на тебя наручники. Чтобы ты от нас не дернул…
Пока он это произносил, Усы Подковой защелкивал на моих кистях пахнущие ружейным маслом браслеты.
— Вы б тогда уже кандалы надевали. — Я постарался вложить как можно больше презрения в голос и вслед за Сухомлиновым вылез из машины. Сухомлинов тотчас вцепился в мою руку чуть выше локтя и не ослаблял мертвой хватки, пока не убедился, что Усы Подковой — тот выбрался из другой двери — так же цепко держит мою правую руку. Эта осторожность показалась мне нелепой. Я все равно не собирался убегать.
На улице было безлюдно. Не мартовская, а черная январская ночь обступила нас. Сеял мелкий, колючий, как железные опилки, снежок, под фонарем превращаясь в какую-то брызжущую сварочную окалину. За витринами продуктового мерцали холодильные камеры, но их слабое бледное свечение совсем не напоминало природу электричества, как если бы в цинковых лотках стали матово фосфоресцировать бруски маргарина.
— Нам туда, — старлей согнул указательный палец, — дом обойти… — и пошел вперед, а мы двинулись следом за ним.
Усы Подковой и Сухомлинов вели меня под руки. Я не отказал себе в удовольствии через несколько шагов поджать ноги и повиснуть между конвоирами, как на гимнастических кольцах.
— Не дури! — сказал Усы Подковой, а Сухомлинов в отместку больно лягнул меня сапогом по ноге. Я же делано расхохотался.
Сзади дважды коротко посигналили. Я оглянулся. За лобовым стеклом, тусклым, но достаточно прозрачным, как первый лед над глубокой водой, похожая на белый рыбий хвост, трепыхалась прощальная ладонь нашего водилы. Мои кисти были скованы, и я просто кивнул ему. Кивнул и, признаться, оторопел. Я был абсолютно уверен, что приехал на «пятерке», а со мной почему-то прощались из «уазика», обычного ментовского «бобика», желтого, с синей ватерлинией на брюхе. Ошибки тут быть не могло — я узнал лицо нашего водилы. И оглянувшийся Сухомлинов подтвердил: