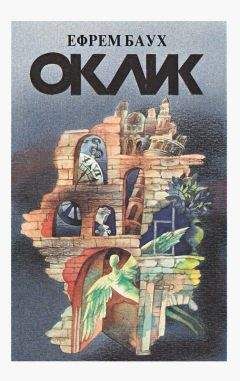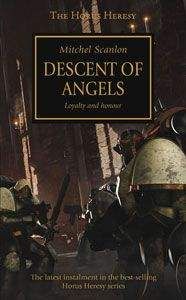"Швили? В Пелесе, помнишь, команда "Загорелся мотор", хватает лопату и давай швырять песок в мотор бронетранспортера. Тут новая команда – "Противник, 50 влево, вперед", все атакуют цепью, в разгар атаки Швили обнаруживает, что автомат забыл в транспортере, так он лопату наперевес и – "Огонь, огонь, бах-бах…" Атака захлебывается в хохоте, все корчатся по земле, Швили продолжает бой в одиночку…"
"…A помнишь ночную засаду? На Иордане? Лежим почти в воде, в густых зарослях. Холод собачий. Все промокли. Вдруг шум, треск, хрюканье: дикие кабаны, и прямо на нас. Забеспокоились: придется их гнать назад, размаскируем засаду, и тут – помощь с неожиданной и не с той стороны: Надлин, пребывающий в глубоком храпе, выводит такую фистулу, что кабаны, сразу же поняв сигнал, бросаются со всех ног наутек…"
Их тихие голоса, из соседней комнаты проскальзывающие в мой неглубокий сон, долго еще обсуждают только виденный фильм Вуди Аллена, и разговор их затем всегда будет всплывать в моей памяти озвученным сновидением, в котором самое главное, поразившее меня даже во сне, можно выразить так: им смешно и странно, как со стороны, видеть этих слабосильных еврейчиков, маменькиных сынков, вызывающих поощрительный смех самоуверенных неевреев, этот еврейский вариант чарличаплинского человечка.
В шесть утра везу их в Тель-Ноф. На перекрестке у сельскохозяйственной школы Микве-Исраэль, приткнувшись к одиноко бодрствующему светофору, который меняет огни на фоне замершего в дремучем сне Ботанического сада, стоя, спит Кальмар в ожидании нас (таким навсегда запомнится мне этот перекресток).
Восемнадцатого февраля родителей приглашают на первый парашютный прыжок.
День солнечный, прохладный. Не зная точной дороги на Пальмахим, долго петляю среди цитрусовых садов. Все, кто работает в поле и садах, кажутся замершими, греющимися на солнышке.
Наконец упираемся в огромное поле до самого моря, огражденное забором колючей проволоки. Вокруг нас, на зеленых холмах и среди редких деревьев разложился шумный табор таких же, как мы, родителей – с автомашинами, пирогами, выпивкой, дедами, бабками, внуками, и чей-то папаша из итальянских евреев, обладающих повышенной чувствительностью, спрашивает у всех успокоительную таблетку. Небо безоблачно, безветренно, тревожно, и неясно, откуда может возникнуть самолет и появится ли он вообще…
Между тем вас везут на летное поле. Выстраиваетесь в шеренгу в напряженном ожидании. Весь этот церемониал, пока приземляется огромный "Геркулес" и вы гуськом втягиваетесь в его брюхо, кажется странным и отчужденным, как в замедленной съемке. Отчужденно медленно длится полет, но вот распахивается дверь, резкий свет и ветер врываются внезапно в темное брюхо самолета.
Напряжение усиливается. И на небе, и на земле.
Папы и мамы, деды, бабки и внуки щурятся в небо, приложив ладонь козырьком ко лбу: "Геркулес" с открытым люком делает один круг, второй, третий; никто не прыгает; на четвертом круге выбрасывается кукла на парашюте: проверяют направление ветра, чтобы не унесло в море; еще один круг и еще одна кукла…
Вы сидите в брюхе самолета, как горошины в стручке, рядышком, в обычное время такие разные, а здесь одинаково зеленые – лицом и формой – великолепная, но значительно поредевшая "двадцатисемерка".
Внезапно команда: "Внимание!
Пустота в желудке, сухость в горле.
"…товсь!"
Прижимаетесь вплотную друг к другу, бодро подмигивая и криво улыбаясь.
И… "Прыгай!.. Прыгай!"
С разрывом в несколько секунд, в провал неба, один за другим. Приближается твой черед. Замираешь над провалом, в десятую долю секунды ощущая горячее дыхание моторов.
"Прыгай!" – толчок в каску…
И ты… в пространстве…
Три секунды, три невероятные – на всю жизнь – секунды – выброс из темного и тесного брюха охватившего тебя ревом Левиафана в ослепительный, режущий глаза, свет неба, в беспредельное пространство с какой-то там, где-то, над головой, сбоку или снизу, неощутимой и в эти мгновения не особенно тебя интересующей землей, три секунды парения, три секунды до раскрытия парашюта, который ударом развернувшегося купола возвращает тебя к реальности. Мгновенный взгляд кверху – над тобою зеленый купол, движение которого отмечает слабое перемещение тонких солнечных лучей. Краем глаза видишь самолет, заходящий в новый вираж, вокруг себя – товарищей, внизу – неповторимой красоты пейзаж; расслабляешь немного ремни на груди, и вдруг земля начинает приближаться с невероятной скоростью. Сжимаешься, готовясь к приземлению. Вот уже. Сейчас? Нет. Может быть, сейчас?.. Кувырок через голову… Купол медленно опадает, покрывая ноги. Лежишь на спине, видишь самолет и ссыпающуюся из него горошинами следующую группу.
Юркие вертолеты, то взмывая, то пикируя, носятся кузнечиками над полем, пролетают так низко, что отчетливо видишь пилота, машущего папам и мамам, в поле отправляется машина "скорой помощи", обеспокоенные мамы гурьбой бегут за ней, но вот уже возвращаются в обнимку с сыновьями, в эти минуты отбросившими обычный стыд и сдержанность, бабки разносят пироги, деды разливают кока-колу, внуки щеголяют в касках, шум стоит невообразимый, а с неба все сыпятся и сыпятся парашюты.
Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова.
Притчи Соломоновы, 6, 5
Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность чрева.
Притчи Соломоновы, 18, 8
МАСКИ. СВИДАНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ НОМЕРЕ.
ОПОГАНЕННОЕ ВИНО.
МИГ ДО ПАДЕНИЯ. ЧАСЫ НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ.
ДВОЙНИК В ГОСТИНИЧНЫХ ЗЕРКАЛАХ: СЛИШКОМ МОЛОДО ОТРАЖЕНИЕ.
НОЧЬ: МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА БЕЗНАДЕЖНОСТИ.
НАТУРЩИЦА: ЗАПАХ ПОДАВЛЯЕМОГО СТЫДА.
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ КАК СОБСТВЕННОЕ КРЕСЛО.
КРУГОВАЯ ПОРУКА ПОДЛОСТИ.
В феврале, после зимней сессии, приехав домой на каникулы, в предвесеннем головокружении молодости, встречах с друзьями, танцах и мимолетных знакомствах, я пропустил мимо ушей сказанное мамой: приезжал какой-то мужчина недели две назад, расспрашивал про меня, сказал, что меня собираются послать на международный фестиваль летом в Москву. Фамилии своей не назвал. Но самое главное, как мама не напрягалась, не могла описать его внешность: он просто ускользал от описания. Мама только запомнила нездоровые мешки у него под глазами, ондатровую шапку и то, что был он средних лет. По неопытности я и на миг не встревожился самим фактом, что человек этот как бы нарочно ускользает от запоминания. В тот миг такое мне и в голову не могло прийти, тем более, что я очень торопился на какое-то свидание.
Начало занятий в марте было вялым, самые толковые лекторы казались монотонными и мы дрыхли в аудиториях под прикрытием учебников.
В такую расслабленную минуту, когда я после лекций спускался по лестнице в вестибюль первого корпуса, мечтая добраться до общежития и завалиться спать, меня явно как зазевавшуюся птицу подстерег секретарь университетского комитета комсомола Слава Кривченков:
– Зайди в комитет, с тобой хочет поговорить один человек.
В углу длинной и темной, как кишка, комитетской комнаты сидел человек в пальто. Поднялся мне навстречу с какой-то сладко-гнилостной улыбкой, пожал руку и подал удостоверение: "Старший лейтенант комитета государственной безопасности Казанков Ипполит Илларионович".
Всю мою сонливость как рукой сняло, и я тотчас и остро заметил нездоровые мешки под его болотного цвета глазами.
– Что-то случилось? – спросил я, глупо уставившись на него.
– Нет, что вы, что вы. Мы просто хотели бы с вами встретиться… Не здесь, не здесь. Давайте так: завтра часа в три я вас буду ждать у гостиницы "Молдова"… с газетой в руках, чтобы вы меня ни с кем не спутали… Такой порядок.
Увидев, что я все еще пребываю в напряженной недоверчивости, добавил:
– Вас рекомендуют на московский фестиваль, так что сами понимаете…
Следующий день был солнечным, поистине весенним, уйма народу толклась на улице у гостиницы "Молдова", только черное воронье, обсевшее деревья сквера и карнизы оперного театра, закрадывалось в душу нехорошим предчувствием, да и Казанков со своей сладко-гнилостной улыбкой, бегающими болотными глазками, мучнистым, похожим на маску лицом, какие бывают у людей, работающих по ночам или страдающих бессоницей, суетливыми пальцами, сворачивающими в трубку газету, на этот раз ужасно мне не понравился. Вдобавок он даже не поздоровался со мной, а лишь заговорщически кивнул головой: мол, следуй за мной. Я шел, глядя в его лоснящийся жирными волосами перхотный затылок, и протест нарастал во мне тяжкой тошнотой.
Мы шли обшарпанным коридором вдоль внутренней стены ресторана, в котором я нередко бывал с ребятами, мятые официанты мелькали, выныривая из каких-то дверей, но все это казалось отчужденным и ирреальным.