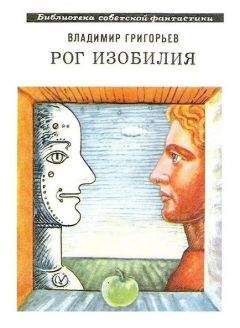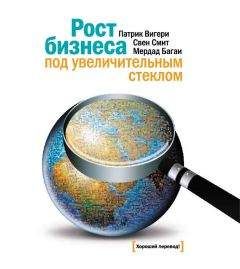И тут Эми Паркер, которая глядела с верхнего яруса вниз, ухватившись за перила памяти, начала убеждаться, что это Мэдлин. Это те фиалки, окруженные листиками, которые она никогда не видела на Мэдлин, но она непременно должна была их носить. И старая женщина вглядывалась в полутьму, где сияли плечи, и Мэдлин подняла руку, чтобы пригладить волосы или смахнуть с головы скуку от этой пьесы, задевшую ее своим крылом.
Когда в антракте зажегся свет, там сидела женщина, вся точно из белого мыла.
– Голову наотрез даю, эта женщина с фиалками – Мэдлин, – сказала Эми Паркер, наклонясь над перилами.
– Какая Мэдлин? – спросил ее муж.
– Та, которая должна была выйти за Тома Армстронга. Которую ты вынес из горящего дома.
Старая женщина могла бы сейчас нагнуться и нарвать этих фиалок, так свежи и росисты они были в ее памяти.
Муж посмотрел на нее долгим взглядом и с жестокостью, присущей мужьям, сказал:
– Та Мэдлин теперь уже старуха. Она постарше тебя, Эми. А ты старая.
И глупая, добавил он про себя. Он понял это, но без всякого недоброго чувства. Можно любить и старых глупых женщин, и даже злющих.
– Может быть, – сказала она. – Да, конечно. Я об этом не подумала.
Женщина, если она хитра, порой даже дьявольски хитра, глупеет к старости, словно ее умственные способности истощила хитрость.
Эми Паркер, по правде говоря, устала. Она медленно ела шоколадку, предаваясь этому сладкому удовольствию за неимением никаких других. Мэдлин, вероятно, уже нет в живых. Но это теперь неважно.
И все же ей стало грустно, но может, это от шоколада. В шоколаде есть что-то печальное, в особенности на такой верхотуре, в темноте. Потому что свет опять погасили. В коварной галерее памяти, куда втолкнули старуху поразвлечься, шелестели вздохи и листки писем, а тем временем какие-то люди управляли своими собственными марионетками. Но марионетки, что двигались на обрамленной золотом сцене, были менее убедительны, потому что говорили словами из книги. Во всем виноваты книги. Нельзя полагаться на то, что написано.
И Эми Паркер, которая теперь то и дело кивала, хотя и не очень заметно, смотрела вниз с темной высоты, и голова ее была переполнена этими словами или наставлениями. Точно так, как была когда-то переполнена чувствами ее грудь. Тогда Эми Паркер ходила вся в шелку, не боясь зацепиться за куст розмарина или за другое колючее растение, и разговаривала с Гамлетом. Только ее Гамлет был рыжеватый. Странно было смотреть на этого бледнолицего Гамлета, сына королевы, крупной, даже тучной женщины – шелка еще больше подчеркивали ее сложение. Королевы тоже бывают удручены и растеряны. Что ж, значит, Гамлет ненавидит свою мать? Ах, Рэй, Рэй, думала она, дай же мне хоть разок твой рот, я тебя поцелую, и ты все поймешь. Но в той комнате, в прежней кухне, теперь пусто, как на сцене, вспоминала она, и у нее не дознаешься правды, как у Гамлета, он ушел в ночь, наполненную зарницами и шелестом листьев.
– Хм, – произнесла она; к зубам ее прилип кусочек твердой начинки, не то карамельной, не то еще какой-то. – Что за дурацкий вид у этих людей. Чего это они так вырядились?
– Это актеры, – ответил Стэн; он опять перечитывал книгу, и это место всегда его озадачивало. – Они сейчас будут играть пьесу про то, как королева изменяла отцу Гамлета. Королева вышла замуж за теперешнего короля, вон того.
– Тц-тц, – поцокала языком Эми Паркер.
Актеры проиграли свою сцену четко и сухо.
Стэн Паркер вспомнил, как он страдал от этой сцены, в которой отравлен был он сам. Сейчас он никакого страданья не испытывал. Ему виделось, как этот актер выскальзывает из театра и уезжает в синей машине. Ему виделся широкий зад коммивояжера, бросившегося из двери к своей машине. Всякая боль в конце концов иссякает. Стэн Паркер стал растирать в темноте старческую кожу своих рук. Пустота внутри удивляла его. Где-то он прочел – «пустой сосуд». В ту ночь, когда его рвало в канаве, когда он стоял на улице и плевал в бога, во все на свете, он стал пустым сосудом. Долгие годы его легкая, приятная, но пустая жизнь была бы совсем хороша, если б где-то внутри не гремела маленькая горошина воспоминаний. Теперь она стала его раздражать. В чем же суть этой пьесы? – недоумевал он, растирая старческие руки; кожа у него на пальцах ороговела, хотя теперь он перестал работать по хозяйству.
– Надо же вытворить такое, – сказала Эми Паркер.
– Что? Изменить мужу?
– Нет, – пробормотала она. И чуть погодя добавила: – Налить яд человеку в ухо.
Она терпеть не могла, когда ей вливали с гремящей ложки глицерин или подогретое масло, если болело ухо. Она даже поежилась. Мысли так и роились у нее в голове.
Ее отравили те дни. Она готова была голову об стенку расшибить от нетерпения, поджидая его. Того человека. Того типа мордастого. И еще притворялась, что не ждет. И все время притворялась.
Она подвинулась, чтобы в темноте почувствовать близость мужа. Ну, что было, то прошло. Ты же не хотела этого. Наступает время, когда ничего уже не хочешь. Так она считала. И вдруг со страхом, хлынувшим на нее со сцены вместе со светом и шумом, она поняла, что приходит такое время, когда хочешь всего, и даже того, чего не знаешь. Я хочу Стэна, я хочу Рэя, сказала королева, но, кажется, никого я не знала так близко, чтобы считать своим.
На сцене поднялась суматоха, королева со своей свитой убежала в темноту от этой коротенькой, жестокой пьесы. Как видно, ее одолел страх.
Старуха сидела на галерке и страдала. Она старалась вернуть своего маленького мальчика. Она сидела на железной кровати, и ее колено прижималось к колену молодого мужа.
А пьеса все продолжалась, длинная пьеса о Гамлете с сумасшествием и всем прочим.
Офелия ее затронула меньше, потому что меньше откликов будила в ее душе. Ей меня уже не напугать, как когда-то напугал Баб, потому что я ко многому привыкла. Хотя и нового много узнаю. Может, пройдет время, я и Стэна лучше узнаю. Но все это сумасшествие! В пьесе много всякого вздора. Сумасшедшие говорят что-то непонятное, как образованные люди.
А вот смерть и похороны – тут уж ничего не скажешь, все просто и ясно. Они ее хоронят. Падают комья земли.
Театр заполнила великая музыка, чеканная поступь рока, и зрители забыли о затекших ногах, о смявшихся платьях, о невыносимом гнете стихов. Близился конец. Все чувствовали кинжал у сердца или у букетиков фиалок, если были букетики.
Вскоре гибкие актеры стали разить и колоть друг друга мечами и речами. Сам Гамлет, который до того играл второго призрака, призрака памяти, весь сияя, одним прыжком оказался перед лицом смерти, которая и есть настоящее, а все остальное, если сравнить, – это прошлое и будущее, предания и предвидения. На секунду актеры замолчали, они только пыхтели или бряцали клинками, если не находили почтительных слов. От света лампы блестела взмокшая рубашка воскресшего Гамлета.
Многие зрители, сидевшие в темноте, тоже порядком вспотели, потому что в последнем действии нелегко разобраться, если не вникнешь с самого начала.
Впрочем, Стэн Паркер, старик, сидевший на галерке, был холоден и безучастен, когда началось нагромождение трупов. Весь вечер он проблуждал по сцене среди нескончаемого потока слов, дышал в унисон с актерами и видел те же видения, что и они, а в конце пьесы отошел в сторону. И сидел на своей галерке. Случайно или намеренно, по сцене разлился серый свет, похожий на предрассветные сумерки в спальне. При таком свете человек начинает сознавать, что он умрет.
Значит, я умру, подумал он. Ему не верилось, что это возможно.
Трупы вскочили с пола и принялись раскланиваться, словно то, что они воскресли, было их собственной заслугой, потом опустился красный занавес, а Стэн Паркер все сидел и раздумывал о себе.
– Где твое пальто, милый? Ты его не потерял? – спросила жена, которой не терпелось вернуться в жизнь.
– Должно быть, под сиденьем. Я его клал туда.
– Ох, – сказала она. – Оно все в пыли. Смотри! И помялось как. Твое хорошее пальто!
Значит, я должен умереть, думал он. Но это было так непостижимо, что он встал, словно актер на сцене, и спросил:
– Ну как, тебе понравилось?
– Мне бы чашечку чаю, но вряд ли мы где-нибудь найдем, – сказала Эми Паркер. – А пальто испорчено.
Она чистила и отряхала это пальто бесконечно. Чтобы к ней что-то вернулось. И он ей не мешал.
А она была рада, что он не спросил о пьесе, когда они спускались вниз по винтовой лестнице, потому что она видела и слышала много такого, что ее растревожило. Что они говорили про королеву? Как будто ее, Эми Паркер, раздели догола. Было и такое, чего она не уразумела, но что-то смутно почувствовала в чаще слов.
Однако спектакль кончился, и несколько дней спустя они уехали домой.
То, к чему они вернулись, было настолько привычным, что Стэн Паркер быстро избавился от предчувствия смерти. Без всяких стараний. Он просто позабыл об этом. Привычки вытесняют постороннюю мысль либо лишают ее горечи. Все свои дела – и нужные, и такие, чтобы просто занять руки, – он чаще всего делал улыбаясь, и, хотя улыбка эта была какой-то рассеянной, все принимали ее за признак довольства и дружелюбия. Стэн Паркер слыл добрым стариканом, и кому же из соседей пришло бы в голову полюбопытствовать, что кроется за этой машинальной улыбкой, и проникнуть глубже.