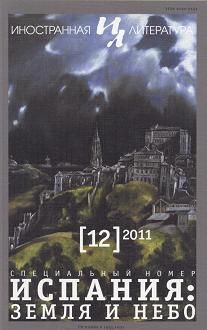Площадь кажется намного меньше, с тех пор как там срубили деревья и стали парковать машины. Теперь она покрыта асфальтом, а не утрамбованной землей, и нет больше тротуаров с каменными бордюрами. Я смотрю на фасад нашего дома и инстинктивно ожидаю, что раздастся металлический стук дверного молотка, но отец нажимает на кнопку звонка. Мы стоим молча, не глядя друг на друга, и изнутри доносится голос:
– Уже иду.
Я слышу легкие шаги, а потом звук отодвигаемой щеколды, вижу полоску света под дверью, и моя мать очень молодым голосом спрашивает:
– Кто там?
Она открывает нам дверь, и я не сразу осмеливаюсь обнять ее – полную, осунувшуюся, с тусклыми покрасневшими глазами за стеклами очков. Черные свитер и юбка окончательно старят ее, и в ней чувствуется медлительность и оцепенение человека, недавно присутствовавшего при чьей-то смерти. Я вижу, что отец тоже целует мою мать и они разговаривают между собой с нежностью, которую я раньше не замечал в них или не был способен уловить. Голоса звучат по-другому в прихожей, особенно в эту ночь: кажется, будто отсутствие бабушки Леонор сделало дом огромным. Мне непривычны плиточный пол, синтетическая краска на стенах, маленькие картины, купленные случайно в мебельном магазине: все эти перемены существовали уже давным-давно, но я не замечал их и не был внутренне оскорблен ими. Я забыл выложенный камнем влажный пол прихожей и запах конюшни, на месте которой теперь находится кухня. Глядя на потолок, я впервые за много лет вспоминаю гроздья изюма и связки колбас, свисавшие с балок. Я как будто только сейчас замечаю, что моей матери должен исполниться шестьдесят один год, что ее крашенные в черный цвет волосы седы у корней, и понимаю, что она всегда казалась мне неизменно молодой по той единственной причине, что я не задерживал на ней свой взгляд.
– Если бы ты знал, сколько раз она вспоминала о тебе, – говорит мать дрогнувшим голосом, – как ей было горько оттого, что она больше тебя не увидит.
Дед Мануэль сидит на диване перед выключенным телевизором, сонный и одинокий, в своем темно-синем халате и широком черном берете. Услышав, что кто-то пришел, он приоткрывает глаза. Я наклоняюсь над ним, чтобы поцеловать в обе щеки, но не уверен, что он меня узнает. Голубые глаза деда медленно останавливаются на мне, он произносит мое имя, слабо улыбаясь отвисшими губами, и опять роняет голову на грудь, но не закрывает глаза, и по его расплывшемуся, тяжелому телу пробегает дрожь. Он прячет руки под скатертью, закрывающей стол с жаровней, снова смотрит на меня и издает какой-то животный или детский стон, звучащий как слишком высокая нота в его тяжелом и шумном дыхании. Дед Мануэль уже почти не владеет своим телом. Моя мать говорит, чтобы он поднимался, потому что пора спать. Он наклоняется, с налившимся кровью лицом и сжатыми от напряжения губами, хватаясь за край стола, но потом опять тяжело погружается в диванные подушки и продолжает сидеть неподвижно, с отсутствующим выражением обиды и беспомощности на лице. Я подаю деду руку и тяну его, словно пытаясь вытащить из воды тюк с глиной. Он опирается на спинку кресла и выступ камина. Я подаю ему палку, такую тонкую по сравнению с его огромной фигурой, и боюсь, что она сломается, когда он обрушит на нее вес своего сгорбленного тела. Моя мать берет деда под руку, и они бесконечно долго идут через столовую и коридор и начинают подниматься по лестнице. Я слышу шум их шагов в комнатах второго этажа, звук падения его тела на пружины кровати, где всего два дня назад спала моя бабушка Леонор. Однако до этого слышится шум кранов, о котором я не хочу думать.
– Она моет его, – объясняет отец, сидящий напротив меня, положив большие, растрескавшиеся, темные руки на стол. – Он уже не может сдерживаться, ему стыдно просить, чтобы его отвели в туалет, расстегнули и спустили брюки, и он делает все под себя. Твоя мать кладет ему подгузники – как детские, но огромные, можешь себе представить? – их выписывает врач.
Опустив голову, отец вздыхает, глядя на свои сцепленные руки: несомненно, он думает о том, что тоже не застрахован от этого, что ему шестьдесят три года и к нему коварно подбирается старость. Он говорит мне, что спит очень мало, с каждым разом ему все труднее вставать в четыре утра, чтобы идти на рынок, и у него сильные боли в позвоночнике и коленных суставах. У отца несколько обрюзгшее лицо, налившиеся кровью щеки, покрасневшие от усталости и бессонницы глаза. «До выхода на пенсию ему остается два года», – думаю я и отказываюсь этому верить. Извинившись передо мной, он поднимается, потому что ему пора спать: мне хочется подойти и поцеловать отца, но я не делаю этого и лишь желаю ему спокойной ночи. Когда гляжу на него со спины, он по-прежнему кажется мне сильным и статным, усталым, но все еще не сломленным, намного моложе, чем любой другой мужчина его возраста.
Мать приготовила мне постель в моей комнате на верхнем этаже. Узнав, что я приезжаю, она оставила там включенный обогреватель, чтобы смягчить стужу такого старого и большого дома. Здесь стоит высокая кровать с железными перекладинами, хранящими глубокий холод давних зим, с двумя шерстяными матрасами, продавливающимися под тяжестью моего тела, как проглатывающий меня сон. В ногах на кровати лежит овечья шкура. Несмотря на обогреватель, в комнате стоит упрямый, пронизывающий, забытый холод, замораживающий плиты и побуждающий спрятать голову и плечи и не вынимать руки из-под одеяла: этот холод делает жесткими чистые хлопчатобумажные простыни и заставляет в первые минуты замереть, дрожа и поджав заледеневшие ноги. В этой комнате, где никогда не бывает гостей, ничего не изменилось за двадцать лет: побеленные стены, балки, прогнувшиеся под тяжестью крыши, большой комод с золочеными ручками. Над ним висит фотография родителей моего деда Мануэля: лысый человек среднего возраста, кажется, похожий на моего деда лишь своей тучностью, и женщина, намного моложе, с губами и подбородком, как у деда, в платье с черной вышивкой на закрытом воротничке. Ее звали так же, как мою мать, она четыре раза была вдовой и родила восемнадцать детей, из которых до сих пор жив лишь дед Мануэль. Ее образ, загадочно близкий и в то же время абсолютно далекий, таит в себе задумчивое равнодушие и жесткую правильность римской головы. Я выключаю свет, испытывая облегчение оттого, что больше не вижу ее, и чувствую под простынями тяжесть одеял, покрывала и овечьей шкуры, глубину матраса, медленное погружение в тепло и сон. Я ощущаю ту же усталость, что и тогда, когда отрывался от тебя на рассвете, скользя по твоему влажному животу, или когда в четырнадцать-пятнадцать лет поднимался в эту комнату, чтобы лечь спать после изнурительного дня работы в поле, и, едва выключив свет, засыпал. В темноте, тишине и тепле я представлял себе белое и горячее тело женщины, ложившейся рядом со мной, протягивавшей свою руку и касавшейся меня между ног. Волосы, губы, лицо и бедра у нее были такие, какими создавало их мое воображение, и вместе мы узнавали хитрости и тайны того постыдного искусства удовольствия, от которого на простынях оставался желтый след вины. Сейчас, погружаясь в сладкое забытье, я желаю и представляю тебя: твое тело, возникающее в моем воображении с прежней ясностью, дарит мне наслаждение, ласки и запахи, которые я искал столько лет, но не нашел бы, если бы не встретился с тобой.
*****
Я никогда не перестану с тобой говорить: я рассказываю тебе обо всем, что вижу и что со мной происходит, пишу тебе в воображении длинное письмо, льющееся и рассеивающееся, как слова, произнесенные вслух. У меня появилась привычка постоянно говорить с тобой мысленно. Я позвонил тебе домой: набрал код международного звонка, и в телефонной трубке раздался шум будто разделяющего нас океана. Услышав твой голос на автоответчике, я вспомнил то время, когда считал тебя блондинкой по имени Эллисон и думал, что никогда больше не увижу. Я сказал, что нахожусь в Махине, и оставил на ленте номер телефона моих родителей. Повесив трубку, я заметил, что сердце бешено бьется, как тогда, когда я несколько часов не решался позвонить Марине и в результате получал в награду за свой выстраданный героизм лишь вежливый отказ.
* *
Тихая смерть бабушки Леонор поселила в нашем доме смиренное уныние, пустоту и полумрак, как в освещенной масляными лампадами капелле, куда почти никто не заходит помолиться. В камине горит огонь, мой дед дремлет, засунув руки под скатерть, закрывающую стол с жаровней, или смотрит на стену с непроницаемым лицом. Иногда его глаза становятся неподвижными и стекленеют, а по щеке катится слеза, и он не сразу успевает стереть ее жесткой тыльной стороной ладони. Мы говорим вполголоса и вздрагиваем от дверного или телефонного звонка. В связи с трауром не включаются ни телевизор, ни радио. По вечерам моя мать и тетя, одетые в черное, читают молитвы Деве Марии, завершая каждое таинство литанией в память моей бабушки Леонор: