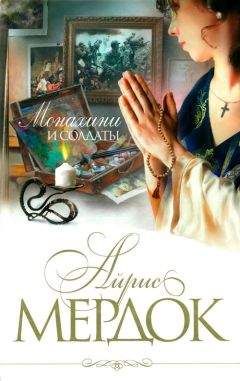Он часто думал над тем, что пережил во Франции, и живо представлял себе «лик» и кристальное озерцо, сверкающую воду канала, жуткий зев туннеля. Ему виделся желтый каменистый берег и черно-белый пес, выбирающийся из воды и встряхивающийся. Раза два Тим доставал рисунки скал, решал, что они неплохи, и снова прятал их. Там в его жизни началось нечто, что глубоко и мистически связало Гертруду и его искусство, хотелось во всяком случае в это верить. Он ощущал эту связь, но особо над ней не задумывался. Он предполагал, что они с Гертрудой еще побывают вместе в тех священных местах, но не представлял себе это паломничество и пока не предлагал Гертруде совершить его. Он немного побаивался возвращаться, однако знал, что легко решится на это, стоит Гертруде хотя бы мимоходом упомянуть об этом.
Иногда он говорил себе: мол, слава богу, что он пошел к Гертруде в тот день, когда едва не утонул в туннеле. А если бы не пошел? Если бы уехал домой и прошли бы недели, месяцы? И чем дальше, тем невозможней становилось бы возвращение, страшно даже вообразить. В смертоносных водах канала и мраке туннеля он заново родился и принял вторичное крещение. Значит ли это, что тогда он вернулся к Гертруде наказанным и очищенным? Слишком романтично. Он вернулся к ней, как дитя, ушибшись, бежит к матери. Вернулся потому, что был весь в синяках, в крови, промок до нитки. Ему повезло, что он свалился в канал. Зачем он вообще ушел от нее и в чем была его вина? Со временем он понимал это все более смутно. Осталось сознание ужасного предательского поступка, который он совершил и который был ему чудесным образом прощен, хотя порой он чувствовал, что преувеличил свою вину, а был лишь уличен во лжи, и это оставило на душе отвратительный осадок. Он знал одно: следует хранить верность первоначальному откровению, велению Эроса, которое было столь очевидным, когда впервые он и Гертруда услышали его в тот майский вечер во Франции. Ему следовало полностью и всегда полагаться на него, как полагается теперь, когда каждый день приносит новое доказательство любви Гертруды. Но, спрашивал он себя с насмешкой, не женился ли он на ней также и ради ее денег? Не руководил ли им так или иначе некий инстинкт, ради святого, ради того, чтобы было где рисовать и писать картины, инстинкт, подобный тому, что заставляет птиц стремиться на юг, а угрей — в Саргассово море? Он не задерживался на подобных предположениях. Любовь — единственное, что имело значение, труд любви в его совершенном браке с Гертрудой, который не всегда будет светлым и радостным.
Сейчас он сказал ей, частично озвучивая свои мысли, желая услышать подтверждение им и уверенный, что получит его:
— Ведь наша любовь не изменилась, на нее никак не повлияло то, что случилось, что я совершил, правда?
И Гертруда, прекрасно понимая его, с улыбкой ответила:
— Нет, она не пострадала, не ослабла, но мы сами теперь другие, потому что потерпели крушение и выжили, так что на деле она стала только крепче.
— Ты так добра ко мне. Я часто думаю, кто я такой, что я такое? Мне далеко до Гая. Тебе, наверное, иногда кажется…
На лице Гертруды появилась знакомая гримаса. Она не в первый раз слышала подобные слова и не поддерживала его сравнения.
— Ты знаешь о странных вещах, которые Гай, бывало, говорил, как магические формулы или заклинания, особенно часто в конце болезни, и я так расстраивалась, потому что не могла их понять, а спрашивать его не решалась…. Обычно он говорил о кольце: «она продала кольцо, ей надо было хранить кольцо». Анна мне объяснила, что это такое. Это, конечно, из «Венецианского купца». Помнишь кольцо, которое жена Шейлока подарила ему и которое Джессика забрала, когда сбежала из дому?..
— И что с ним случилось?
— Она променяла его на обезьяну.
— Интересно, почему Гай…
— Он отождествлял себя с Шейлоком. Признавался мне: в нем живет постоянное чувство, что он должен в один прекрасный день все бросить и бежать куда глаза глядят. Полагаю, это глубоко еврейское чувство. Он всегда будто сидел на чемоданах.
— Мне он казался воплощением стабильности. А еще он говорил что-то такое о белом лебеде…
— Да, но я не знаю, как это объяснить, а еще о кубе…
— Каком кубе?
— О верхней стороне куба. Достать или достичь «верхней стороны куба».
— Ударить по верхней стороне куба. Тут я могу помочь.
— Ты?
— Как странно. Ты, возможно, не помнишь, но много лет назад, когда Гай играл в теннис в «Королевском клубе»…
— Он был таким замечательным игроком…
— Да, так вот, тогда он из чистой любезности пару раз предложил мне сыграть с ним. Я был безнадежен. Он пытался научить меня и повторял слова, которые говорил ему тренер: «Когда делаешь подачу, представляй, что мяч — это куб и ты хочешь ударить по его верхней стороне».
— Господи, — воскликнула Гертруда, — я-то думала, что это какой-нибудь философ из досократиков, а оказывается, речь шла о теннисе!
— Знаешь, Гертруда, я любил Гая, я любил его. И боялся, но он был мне как отец. Он был хороший человек.
— Да. Да. Да.
Они замолчали.
Тим думал: не странно ли, что вот будут идти годы, сменяться сезоны и дни становиться короче, и они будут совершать паломничество по годовщинам того дня, когда влюбились друг в друга, потом дня, когда друг друга потеряли, потом, когда вновь встретились в Британском музее, потом дня свадьбы и ужасного времени, когда снова разошлись, и празднества листвы, и соединения во Франции, потом переезда в новый дом, и так до годовщины смерти Гая. Каждый год, встречая Рождество, они будут вспоминать эту годовщину. О господи, какой она будет, эта первая годовщина? Что будет чувствовать Гертруда по мере приближения этого дня? Какая тьма должна накапливаться в ее сознании? Должно быть, она уже каждое утро думает: «В этот день, год назад». И все же она любит его и, кажется, способна и скорбеть, и испытывать радость. А если она вдруг не выдержит? Не безумен ли он, думая, что она будет продолжать его любить?
А Гертруда думала: не оттого ли она стремится к блаженству, что иначе ее горе будет слишком невыносимо? Не только ли сейчас она начала скорбеть по-настоящему, когда обрела надежное место, где можно предаваться скорби? Теперь она знает, что выживет. И все же она сказала Гаю, что без него тоже умрет, и верила в это. Сказала, что тоже будет мертва. Мертвая среди живых. И не умерла. Живет, и с ней произошло множество невероятных, изумительных вещей. Она обрела Анну и вновь потеряла ее, думала, что Анне назначено сопровождать ее в трауре, что они медленно пойдут вместе в будущее, но все обернулось иначе. Она ускользнула от протянутой к ней руки смерти и не может представить, что это было неправильно. Та ли она, что прежде, что с ней стало? Да, она будет оплакивать Гая, устроив свою жизнь, лить слезы, а Тим молча утешать ее, гладить по волосам и целовать ей руку.
И еще Гертруда думала: почти год назад Гай сказал ей: если она надумает выйти замуж, то пусть выходит за Графа. И она решила, будто он не хочет, чтобы она выходила за Манфреда. Больше она в это не верит. Наверняка Гай просто желал, чтобы она жила спокойно и счастливо. Он умолял ее быть счастливой. Но что он подумал бы сейчас?
Ее уже не преследовала память о Гае, но чем ближе становился канун Рождества, тем она острее чувствовала, что не примирилась с ним. И говорила себе, что невозможно достичь окончательного примирения с мертвыми, если не принимать за примирение равнодушие и забвение. Они не могут осуждать нас, но не могут и прощать. У них нет ни знания, ни силы, ни власти. Они могут существовать только как вопросы, как бремя, как боль и как странные объекты любви. Она всегда будет любить Гая, оплакивать его, нуждаться в нем, чувствовать боль, и этот вопрос и это бремя останутся с ней до конца жизни.
А Тим думал: ее мысли сейчас о Гае. Ах, эта печаль, печаль в глубине чуда. Он будет верен ей, думал он, будет служить ей преданно и с любовью все отпущенные им дни жизни. И никогда больше не солжет ей. Никогда. Никогда. Никогда? Ну, почти.
— Это так печально, — сказала Гертруда, — я надеялась, Анна будет с нами на Рождество, надеялась, мы встретим его все вместе: ты, и я, и Анна, и Питер, а теперь ее не будет.
— Не будем играть в шахматы, ладно? — предложил Тим. — Давай ложиться.
— Да, дорогой. Знаешь, я тут вот о чем подумала. Попробую написать роман, мне всегда казалось, что у меня получится.
— Вот это да! — воскликнул пораженный Тим. — И обо мне там напишешь?
Они отправились в спальню.
— Ты не заболел? — спросила Манфреда миссис Маунт.
— Нет.
— Я думаю, заболел, заразился от Джанет, вечно скрываешь простуду.
— Да нет же. Забыл сказать, Белинтой возвращается.
— О, прекрасно. Но почему сейчас, когда как раз начинается лыжный сезон? Наверное, деньги кончились.
— Полагаю, дошел слух, что его мать собирается замуж!