— Я люблю тебя…
— Ну за что?
— Не знаю…
— Я могу держать ответ за тебя…
— Не надо держать ответ, я сама хочу. Будем вместе раз сто, только тогда оставлю тебя.
Чувствуешь себя старым голодным быком перед сотней сочных и нежных травинок!
Сотня раз пролетела мгновенно, а нам никак не оторваться друг от друга.
Вот бы этот сотый раз никогда не заканчивался!
— Посмотри на меня хорошенько, не забывай… — поглаживала она меня, всхлипывая.
— Чуньмяо, хочу, чтобы ты стала моей женой.
— А я не хочу.
— Я уже всё решил. Скорее всего, впереди бездна, но другого выбора у меня нет.
— Тогда прыгнем в неё вместе.
В тот вечер я вернулся домой, чтобы выложить всё жене. Она провеивала зелёные бобы в пристройке. Работа непростая, но она в этом поднаторела. Руки двигаются под лампой вверх и вниз, вправо и влево, тысячи зёрен подпрыгивают и перекатываются, шелуха так и вылетает из корзинки.
— Что это ты за бобы взялась? — не нашёлся я сказать ничего другого.
— Дед вот прислал с оказией. — Глянув на меня, она вынула из корзинки камешек. — Своими руками вырастил, так что другое пусть гниёт, а бобы — нельзя, чтобы испортились; провею вот, проращу и буду Кайфана кормить.
Она снова принялась за работу, бобы зашуршали.
— Хэцзо, — решился я, — давай разведёмся.
Руки застыли, она тупо уставилась на меня, словно не понимая сказанного.
— Хэцзо, ты уж прости недостойного, но давай разведёмся.
Корзинка у груди стала наклоняться. Сначала упала пара бобов, затем десять, сто, и вот уже целый зелёный водопад сыплется на цементный пол с мраморной крошкой.
Выпала у неё из руки и корзинка. Тело закачалось, её повело в сторону. Я бросился поддержать её, но она уже оперлась о разделочную доску, где лежали пёрышки лука и засохший жареный хворост. Зажав рот рукой, она всхлипывала, из глаз струились слёзы.
— Извини, конечно, но уж помоги мне в этом…
Резко откинув руку со рта, она утёрла слёзы согнутыми указательными пальцами и прошипела сквозь зубы:
— Только через мой труп!
ГЛАВА 43
Хуан Хэцзо срывает злобу на блинчиках. Четвёрочка пьёт и грустит
Пока ты в пристройке раскрывал карты перед женой, распространяя вокруг запах безумной любви с Чуньмяо, я сидел под стрехой, погруженный в раздумья, и смотрел на луну. Славная штука, как она всё же сводит с ума.
В это полнолуние все собаки должны собраться на площади Тяньхуа. Предполагалось рассмотреть три вопроса. Первое — отдать дань памяти мастифу, который так и не приспособился к жизни настолько близко к уровню моря: ухудшение деятельности внутренних органов привело к внутреннему кровоизлиянию и смерти. Второе — отметить месяц со дня рождения детей моей сестры. Четыре месяца тому назад она сочеталась свободным браком с норвежской ездовой из семьи председателя уездного Народного политического консультативного совета, понесла и, когда вышел срок, родила трёх метисиков с белыми мордочками и жёлтыми глазками. По словам востроморденькой русской лайки из дома Го Хунфу, которая частенько наведывается в дом Пан Канмэй, мои собачьи племяши здоровые и бойкие, а взгляд у всех коварный, как у трёх маленьких злодеев. Хоть внешность и подкачала, зато сразу с появлением этой троицы на свет поступили заказы от состоятельных людей; говорят, и задаток солидный — по сто тысяч юаней за каждого.
Прозвучал предупредительный сигнал — его дал гуандунский шарпей, исполнявший обязанности моего адъютанта-связного. В ответ невидимыми волнами раскатился разномастный лай собиравшихся собак. Гав! Гав! Гав! Это я пролаял три раза на луну, сообщая всем, где нахожусь. У хозяев серьёзное происшествие, но обязанности председателя сообщества нужно выполнять.
Ты, Лань Цзефан, куда-то спешно ушёл, бросив на меня многозначительный взгляд. Я проводил тебя лаем: к концу подошли твои счастливые дни, дружище. Я ненавидел тебя, но не так чтобы сильно. Как я уже упоминал, мою ненависть уменьшал исходивший от тебя запах Пан Чуньмяо.
По запаху я определил, что ты следуешь — пешком, не на машине — на север, тем же маршрутом, каким я провожаю твоего сына в школу. Твоя жена в пристройке развела страшный шум; через распахнутую дверь видно, как отливает холодным блеском большой нож для овощей, которым она ожесточённо кромсает на разделочной доске большие охапки лука и хворост. Оттуда плывёт прогорклый и едкий луково-масляный дух… Твой запах уже переместился к мосту Тяньхуа и смешался с вонью протекавших под ним нечистот. С каждым ударом ножа твоя жена припадала на левую ногу, и у неё вырывалось: «Ненавижу! Ненавижу!» Твой запах достиг западной оконечности сельского рынка. Там в одноэтажных домиках жили торговцы одеждой с юга. Всей артелью они держали австралийскую овчарку по кличке Баранья Морда. Длинная шерсть, особенно на плечах, морда узкая, продолговатая, на семьдесят процентов — пёс, на тридцать — баран. Как-то он попытался преградить дорогу твоему сыну, задрал голову и оскалился, устрашающе рыча. Мальчик отпрянул и спрятался за меня. В домишках торговцев сырость и грязь, на псине этой блох полно, а ещё смеет преграждать дорогу моему школьнику. Но задать урок этому недавно приехавшему и не знающему правил типу с помощью клыков не хотелось. Замечаю перед собой острый обломок плитки. Резко поворачиваюсь, левой задней ногой — р-раз, плитка взлетает и прямо ему по носу. Он взвизгивает и, опустив голову, начинает бегать кругами. Из носа чёрная кровь течёт, слёзы выступили. А я строго так говорю: «Мать твою, ослеп, что ли, глаза бараньи!» С тех пор этот пёс мой преданный друг: вот уж, как говорится, не подерёшься — не познакомишься. Я издал пронзительный вой в сторону рынка, это было распоряжение: «А ну, Баранья Морда, пугни того типа, что сейчас перед твоими воротами проходит». Через минуту донёсся волчий рык этого пса. Красная линия твоего запаха устремилась стрелой по переулку Таньхуа, а на пятках у тебя щёлкал зубами Баранья Морда.
Из дома выбежал твой сын и, увидев, что творится в восточной пристройке, испугался:
— Мама, что ты делаешь?
Твоя жена, пока не излив всей злости, рубанула по куче лука ещё пару раз, отбросила нож, обернулась и утёрлась рукавом:
— Ты что ещё не спишь? Разве завтра не в школу?
Твой сын подошёл к пристройке, посмотрел на неё и звонко воскликнул:
— Мама, ты плачешь?!
— Какое плачешь? С какой стати мне плакать? Это от лука.
— Кому нужно резать лук за полночь? — канючил он.
— Спать давай, опоздаешь в школу — отлуплю так, что живого места не останется! — В крайнем раздражении она схватилась за нож.
Твой сын, бормоча что-то в испуге, стал пятиться от неё.
— Подойди сюда. — Держа в одной руке нож, другой она погладила сына по голове. — Ты должен уметь постоять за себя, сынок, хорошо учиться. А мама испечёт блинчики с луком.
— Мама, мама! — кричал он. — Я не хочу, не надо их готовить, ты и так устала…
Но она вытолкала его за дверь:
— Мама не устала, сыночек, ложись…
Пройдя пару шагов, он обернулся:
— Вроде бы папа приходил?
— Приходил, — бросила она, помолчав. — А потом снова ушёл. Сверхурочная работа у него…
— Ну почему у него всегда сверхурочная? — заныл твой сын.
От этой сцены стало очень тягостно. Среди собак я бессердечен, а в доме у людей размягчаюсь по каждому поводу. На велосипедах, пропахших ржавчиной, по переулку проехали двое парней, от которых вечно несло табаком и вином. Они делано горланили:
У тебя ведь сердце доброе, доброе,
всё на свете взваливаешь на себя…
Облаяв этот мотивчик, я тут же почуял, что погоня за тобой продолжается и скоро вы доберётесь аж до конца переулка. «Будет. Не гоняй его больше», — тут же передал я Бараньей Морде. Линии запахов разделились, красная потянулась на север, коричневая — на юг. «Ты его не искусал случаем?» — «Так, цапнул немного, крови вроде нет, но, похоже, обделался этот мерзавец от страха». — «Добро, до встречи».
Твоя жена и впрямь принялась готовить блинчики с луком. Замесила тесто размером с подушку. Неужто всех одноклассников твоего сына накормить вздумала? Месит и месит, поводя худыми плечами. «Хорошо побитая жена как хорошо замешенное тесто». То есть чем больше жену бить, тем она добродетельнее, а тесто чем больше мять, тем оно более упругое. Её уже и пот прошиб, и кофта на лопатках промокла. Слёзы то катятся, то перестают — слёзы злобы и досады, слёзы печали, слёзы от целого калейдоскопа чувств и событий в прошлом, — все они падают на перед кофты, на тыльные стороны ладоней и на мягкую поверхность теста, которое становится всё мягче, от него уже исходит приятный запах… Добавила муки и снова принялась месить. Иногда негромко всплакнёт, но тут же закрывает рот рукавом. Лицо измазано, вид и смешной, и жалкий. Иногда останавливается и, свесив перепачканные в муке руки, ходит по пристройке кругами, будто ищет что. Один раз поскользнулась и шлёпнулась задом на пол, на рассыпанные зелёные бобы, и сидела так, тупо уставившись перед собой, будто глядя на геккона на стене. Хлопнула ладонями по полу и взвыла. Но лишь на миг. Встала и продолжила работу. Через некоторое время сгребла весь нарубленный лук и хворост в таз, плеснула масла, подумала, добавила соли, опять подумала и, взяв бутылку с маслом, налила ещё. Я понял: в голове этой женщины царит невероятное смятение. Держа одной рукой таз, другой — палочки для еды, она принялась всё перемешивать, снова ходя кругами по комнате и блуждая взглядом по сторонам. Вновь поскользнулась на рассыпанных бобах и на этот раз упала не так удачно. Чуть не навзничь растянулась на твёрдом, скользком и холодном полу. Но таз, как ни странно, не выскользнул из рук, да ещё и не опрокинулся. Я хотел было рвануться к ней на выручку, но она уже медленно подняла верхнюю половину тела. Но не встала, а осталась сидеть. Пару раз горестно всплакнула как маленькая и тут же резко оборвала плач. Подвинулась вперёд, ёрзая ягодицами, потом поёрзала ещё пару раз. Тело здесь изуродовано, и приходилось после всякого движения сильно крениться влево. Но таз с начинкой она умудрялась держать ровно. Вытянувшись вперёд, поставила таз на разделочную доску и снова двинула телом влево. Вставать не стала, лишь вытянула ноги, наклонилась вперёд почти до колен, будто выполняя какой-то чудной цигун.[268] Было уже далеко за полночь, луна поднялась в самую высокую точку и заливала всё вокруг ярким светом. Тишину прервал бой старинных настенных часов у соседа на западе: до собачьего собрания оставался всего час. Множество собак уже сидели у фонтана на площади Тяньхуа, другие подтягивались по улицам и переулкам. Я немного беспокоился, но уйти не смел — боялся, как бы эта женщина на кухне не натворила глупостей. Пахло из картонной коробки в углу, перевязанной верёвкой, чувствовался слабый запах протечки газа на стыке резиновой трубки, а также несло дихлофосом из бутыли в углу, завёрнутой в несколько слоёв промасленной бумаги. Всё это может погубить человека. Конечно, ей ничего не стоит и ножом по запястью резануть, и горло себе перерезать, за электрический рубильник взяться, головой об стену удариться. Может отодвинуть бетонную крышку стоящего посреди двора колодца и туда сигануть. В общем, немало доводов против моего председательства на очередном собрании в полнолуние. За воротами поскуливали, тихонько скребя когтями, Баранья Морда и прибежавшая с ним за компанию русская лайка из дома Го Хунфу. «Начальник, мы тебя ждём», — чарующим голоском звала она. «Вы идите, у меня тут дело, которое я не могу оставить, — вполголоса сообщил я им. — Если не получится прийти в назначенное время, пусть собрание ведёт мой заместитель Ма». Ма, овчарку с чёрным загривком из дома директора мясокомбината, звали по фамилии хозяина. И Баранья Морда с лайкой, заигрывая друг с другом, побежали на юг по переулку. А я продолжал наблюдать за твоей женой.

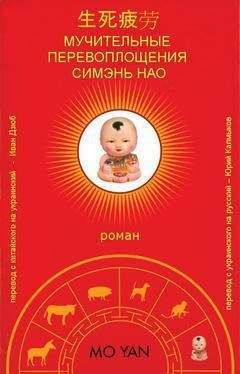



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)