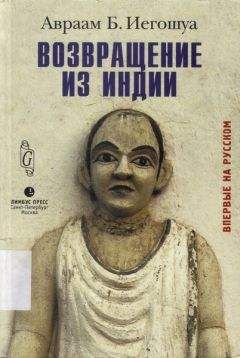Был ли я подготовлен к ее звонку? — неистово спрашивал я сам себя, спеша домой, где Микаэла ожидала меня, чтобы мы пошли с ней в кино. Я не решился позвонить Дори, и мы отправились на ранний сеанс, где нам рассказали о превратностях любви, наблюдая за которой я пытался найти решение собственных моих любовных проблем с одинокой вдовой директора больницы. Но мои мятущиеся мысли то и дело возвращали меня к женщине, ожидавшей меня, ожидавшей, что я дам о себе знать, и желавшей удержать меня от каких-либо решений. Тем временем фильм, к очевидному удовольствию режиссера, закончился всех устроившим страстным поцелуем.
— Абсолютный идиотизм, — вынесла свой приговор Микаэла. когда в зале зажегся свет; сняв очки, она сунула их в карман. — Точь-в-точь как индийские фильмы. Но в тех нет хотя бы этих псевдофилософских трюков.
Я согласился с ней и рассказал о фильме, который посмотрел в Калькутте. Она была поражена, узнав, что я провел в Калькутте несколько часов, потратив половину времени на то, чтобы смотреть глупейшую индийскую кинопродукцию, основную канву которой я не только подробно запомнил, но и живописал ей.
— Глупо, — еще раз сказала она. Я не мог не согласиться.
— Ты права, — признал я. — Но Калькутта повергла меня в ужас. Я был просто в панике… А кроме того, я боялся заблудиться.
Я рассказал ей о видении, посетившем меня во сне два года тому назад во время перелета из Бодхгаи в Калькутту; я описал ей все в мельчайших деталях и с такой яркостью, словно я только что вновь очнулся в темном зале маленького грязного калькуттского кинотеатра.
— Но в Калькутте невозможно потеряться, — сказала Микаэла.
И она начала мне описывать неповторимую планировку Калькутты, позволявшую легко найти ее центр. Мне было трудно следить за ее мыслью, не только потому, что мысль ее следовала слишком уж эфемерным путем, что часто случалось с ней, стоило разговору зайти об Индии, но и потому еще, что я был переполнен мыслями о Дори, которая в нездоровье и страданиях, быть может, в эту минуту взывает к моей помощи.
Наша нянька — милая и воспитанная девчушка лет двенадцати, дочь никому не известного отца и одной из школьных подруг Микаэлы по имени Хагит и чей нежный возраст и заставил нас пойти в кино на самый ранний сеанс, — сообщила нам, едва мы успели переступить порог, что меня разыскивает жена Лазара.
— Жена Лазара? — удивленно повторил я за ней. — Она что, так представилась?
— Да. Именно так она и сказала, — доверчиво сообщила девочка.
Микаэла с удивлением наблюдала за тем, как вместо немедленной попытки дозвониться до Лазаров по телефону, я для начала просмотрел, внося кое-какие поправки, домашнее задание девочки по арифметике, а потом, пока она выясняла отношения с огромной порцией разноцветного мороженого, посыпанного тертым шоколадом, которое Микаэла поставила перед ней (единственная плата, которую ее мать согласилась принимать от нас), я, в свою очередь, внимательно просмотрел содержимое ее школьного ранца (очевидно, исполняя обязанности ее отсутствующего отца), выбрасывая из пего обрывки смятой бумаги, равно как и старый недоеденный сэндвич, после чего дождался, пока она попрощается с Шиви, чтобы в конце концов я мог отвезти ее домой.
— Ты не хочешь позвонить миссис Лазар? — спросила меня Микаэла.
— В этом нет надобности, — не раздумывая, отозвался я, даже не взглянув в ее сторону. — Я точно знаю, чего она хочет. Она приболела, и теперь ей нужен доктор. — И я пересказал ей свой разговор с секретаршей, которая взяла Дори под свое покровительство и даже оставалась ночевать в ее квартире.
— Если миссис Лазар уже оказалась в постели, — заметила Микаэла, поправляя девочке ворот на ее водонепроницаемой куртке и делая рожицы, чтобы позабавить Шиви, — можно ожидать, что оплакивание покойного Лазара окажется длительным и весьма тяжелым предприятием.
— Может быть, и тяжелым. Но ведь это только естественно, — согласился я. — Но вот насчет того, что длительным… Я бы этого не стал утверждать.
Микаэла слушала внимательно, безуспешно пытаясь перехватить мой взгляд.
— Ну а что ты решил насчет телефонного звонка? — все-таки успела она спросить, прежде чем я закрыл за собою дверь. — Ты не вправе игнорировать ее.
— Я знаю, — успокоил я ее и пообещал, что на обратном пути домой навещу больную. Когда я на минуту вернулся, чтобы взять свой медицинский саквояж, Микаэла показалась мне успокоенной.
Я не стал звонить Дори, в основном, потому, что боялся, что если я позвоню, она удовольствуется одним-двумя вопросами и откажется от моего предложения навестить ее и осмотреть. Я не был настроен играть исключительно роль врача — вместо той действительной роли, на которую претендовал и которая с каждой минутой представлялась мне все более достижимой, переполняя тревогой и желанием настолько, что я не стал даже дожидаться, пока наша бебиситтер помашет мне сквозь окно; я весь горел, не в состоянии решить, как же я должен воспринимать звонок Дори — как обычный звонок, или как знак, которого я так страстно ожидал. А потому я решил оставить свой саквояж в машине и, поднимаясь на эскалаторе к ней на верхний этаж, твердо решил выяснить это, получив хоть какое-то подтверждение. Меня толкала вперед неведомая сила, бушевавшая во мне с самой первой минуты смерти Лазара, и в то время, как я стоял у входной двери в окружении цветущих растений, я решительно сунул руку в карман, чтобы нащупать там ключ. Не найдя его, я нажал на звонок. Он немедленно испустил пронзительный и резкий, подобно птичьему свисту, звук, который, похоже, никем не был услышан или на который никто не обратил внимания. Вокруг царила тишина. И неудивительно — это была одна из тех толстых звуконепроницаемых дверей, не пропускавших ни звука, ни света изнутри. Я снова нажал на кнопку звонка, который Лазар поставил после их возвращения из Индии, — так я решил, потому что в первое мое посещение этой квартиры никакого птичьего свиста я не слышал, а в течение поминальной недели тем более, поскольку входная дверь была попросту постоянно открыта, пропуская бесконечный поток визитеров.
Но вот в отдалении я услышал нерешительные шаги. Что было и неудивительно — разве могла она предположить, а тем более догадаться, что я без приглашения заявлюсь к ее дверям в такой час? Но когда я ощутил ее сомнения с той стороны двери, касавшиеся вопроса о том, следует ли отозваться на неожиданный звонок, осведомившись, кто это или попросту игнорировать неизвестного визитера, я решительно надавил на свистящий звонок и сказал, приникнув к дверной щели:
— Это я. Всего лишь я. — И желая помочь ей решиться на то, чтобы откинуть засов, добавил: — Ты ведь разыскивала меня.
Дверь отворилась. Она была одета во фланелевую ночную рубашку, поверх которой она натянула толстый зеленый свитер Лазара, прическа была в беспорядке, а по рдеющим пятнам на щеках и тусклому мерцанию глаз я понял, что у нее температура и немалая; это успокоило меня, поскольку, если бы оказалось, что телефонный звонок и на самом деле означал зов любви (или, по крайней мере, мог означать ее), в любом случае, мое появление здесь было не только правильным, но и вполне своевременным.
— Они таки оставили тебя одну! — Этот невольный крик, сорвавшийся с моих губ и бывший лишь выражением моего негодования, прозвучал, к собственному моему удивлению, на глубоко сочувственной ноте.
— Кто оставил меня? — спросила она, нахмурившись; выражение негодования явно читалось на ее лице, возможно, потому, что она чувствовала: в глубине души я продолжал думать о Лазаре как о том, кто не имел права оставлять ее одну.
— Я думал… — заикаясь выдавил я, — что Эйнат, или… — тут я окончательно замолчал, решительно не в силах вспомнить, как зовут ее сына. Но она, разумеется, немедленно поняла и сразу бросилась на его защиту.
— Он солдат, — сказала она. — И должен был вернуться на свою базу.
На лице ее не было даже намека на улыбку, а голос прозвучал враждебно. Означало ли все это, что она сердится на меня? Я чувствовал прилив радости, сопровождаемый тенью страха, и в то же время в ее голосе я явно различил и выделил нотку нетерпения, с которой она время от времени обращалась в Индии со своим мужем.
— Так ты искала меня или нет? — настойчиво переспросил я, словно ни о какой ее болезни уже не шло и речи, стараясь заставить ее видеть во мне, стоявшем перед нею, вовсе не врача по вызову, а молодого, полного сил и желания любовника.
— Да, я искала тебя, — мрачно подтвердила она, точно так же, не обращая внимания на свою болезнь. И, как если бы я поклялся отныне нести за нее полностью всю ответственность и в любую минуту быть рядом, обиженно добавила: — Так где же ты все это время прятался от нас?
Оказавшись в позиции невинно оскорбленного в этой странной ситуации и с учетом последних ее слов, прозвучавших в этой короткой фразе, я, отбросив все сомнения и чувствуя, как растет и крепнет во мне уверенность, что сейчас и прозвучал тот долгожданный сигнал, о котором я столько грезил с момента того вечернего разговора с секретаршей, я с силой притянул ее к себе, чувствуя, как она становится невесомой в моих железных объятьях. Был ли тому виной аромат, исходивший от каждой клеточки ее тела, или могучая поддержка вселившейся в меня души Лазара — сказать не могу. Теперь, когда я прикасался к ней, я понял что ее лихорадка была неподдельной и тревожащей, и что сама она не понимала, насколько серьезно ее положение. По ее коже, очень сухой и горячей, без малейших признаков пота, можно было предположить, что здесь имеет место вирусное заболевание, против которого никакой антибиотик, включая те, что имелись в моем медицинском наборе, не эффективен. Несмотря на толстый свитер Лазара, она дрожала, и я знал, что если я начну настаивать, чтобы она сняла его, дрожь ее только возрастет. А потому я поступил иначе: опустился перед ней на колени и уткнулся головой ей в живот, надеясь возбудить в ней желание.