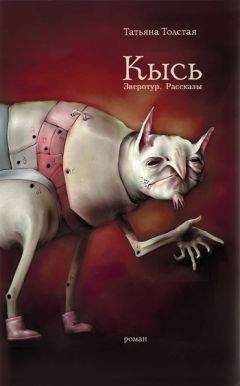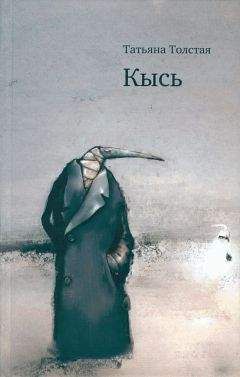Пока пирожные не съедены, мне с Женечкой интересно, а потом – увы – скучно. Подробно рассказывает она о своем здоровье, о содержании прочитанной книги, о цветах, пышно растущих летом у одной ее приятельницы на станции Пери (от вокзала пройти вперед, потом повернуть, еще раз повернуть, и второй дом), и совершенно не растущих зимой по той причине, что зимой лежит снег (упавший с неба), и потому ничто в саду, к сожалению, расти не может, но как только придет весна и дни станут длиннее, а ночи короче, и начнет пригревать солнце, а на деревьях появятся листья, то, безусловно, цветы зацветут вновь...
И я тихо выскальзываю из комнаты и пробираюсь на кухню – вот где настоящая жизнь! Домработница Марфа пьет с лифтершей чай. Марфа – лысая, высокая, хитрая деревенская старуха, прибитая войной к нашему порогу, все-то она знает лучше всех.
– ...Вот он и говорит: постереги, мол, тетка, чемодан. Я, говорит, счас, мигом. Она и возьми. Хвать – а его уж нет. Ну и час его нет, и два его нет, а ей домой пора. Умаямши дожидаться. Хотела в милицию сдать, да дай, думает, загляну. Ну и заглянула. – Марфа высоко поднимает брови, колет щипцами рафинад.
– Ну? – тревожится лифтерша.
– Вот и «ну»! Баранки гну! Думала, может, там вещи ценные, али что. Открывает – матушка царица небесная... Голова с усам!
– Отрезанная?!
– Вот по сю пору. Одна голова, милые вы мои, и с усам. Мужчина такой нестарый. И говорит он ей, женщине-то этой: «Закрой, говорит, чемодан и не лезь, куда не следоват!!!»
– О?! Это – голова?
– Да. Ну, она бежать без памяти. А он ей вслед: «Закрой, дура, чемодан, хуже будет!» – и по матушке ее...
– Да что же это...
– А это, милые вы мои, воры. Они. Вот так они его с собой в чемодане носят, дадут кому в очереди подержать, а он оттудова слушает: у кого облигации спрятаны али отрезы.
– Вон что делают...
Я в ужасе спрашиваю:
– А голова... кто это был?..
– Кто-кто – Иван Пикто... Иди себе поиграй... Эта-то ваша... сидит еще? С бусами-то эта?
Не любит Марфа Женечку: потертую ее шубу не любит, бусы, нос...
– Уж и носок – с двадцати пяти досок! Кабы мне б такой носина, я б по праздникам носила! Ба-арыня! Заладит свои разговоры: ду-ду-ду, ду-ду-ду...
Марфа смеется, лифтерша тоже вежливо смеется в кулачок, и я смеюсь вместе с ними, предавая ничего не подозревающую Женечку, да простит она меня!.. Но ведь она и правда – ду-ду-ду...
– А вот еще рассказывали...
Но за окнами уже синева, и в прихожей голоса – Женечка собирается домой. И все, усталые, торопливо целуют ее, и всем немножко стыдно за то, что они так безбожно скучали и что Женечка, чистая душа, ничего такого не заметила.
И кто-нибудь провожает ее до трамвая, а остальные смотрят в окно, где под медленно падающим снегом, опираясь на посох, в высоком колпаке, медленно бредет Женечка, возвращаясь в свое одинокое жилище.
И трамвай понесется мимо пустырей, сугробов, заборов, мимо низких кирпичных фабрик, посылающих призывный рабочий рев в железную зимнюю тьму, мимо размозженных войной домов, – и снова заборы, сугробы, пустыри, и где-нибудь на окраине, поближе к холодным полям, в вагон, в тусклое, постукивающее, примолкшее пространство ввалится морщинистый инвалид, растягивая баян: «О я несчастный, я калека, не дайте горе перенесть, я половина человека, но я хочу и пить и есть», – и теплая, ежащаяся от стыда медь полетит в засаленную ушанку.
Хлопья снега гуще, плотнее белая пелена, качается уличный фонарь, провожая маленькую хромую фигурку, метель заметает слабые, еле видные следы.
А ведь она и вправду, на самом деле, была когда-то молода! Подумать только – и небесный свет был тогда ничуть не бледнее, чем теперь, и такие же черные бархатные бабочки трепетали над пышными розовыми клумбами, и так же шелковисто свистела трава под Женечкиными полотняными туфлями, когда она с парусиновым чемоданом в руке шла по аллее к своему первому ученику, немому темноглазому мальчику.
Родители мальчика были, конечно, хороши собой и богаты, у них было имение, а в имении оранжерея с персиковыми деревьями, и молодая Женечка, только что окончившая гимназию с отличием, сфотографировалась среди цветущих персиков – приятно улыбающаяся, некрасивая, с двумя длинными пушистыми косами, замечательными тем, что книзу они становились еще толще и пушистее. Фотография выгорела до йодной желтизны, но Женечкина улыбка и персиковое цветение сохранились, а вот немой ее воспитанник выцвел целиком – видно только светлое пятно, прижавшееся к Женечке.
Когда она пришла в ту стародавнюю семью, мальчик мог произнести только свое имя: Буба, весь же остальной мир был для него захлестнут молчанием, хотя он все слышал и всех любил, и особенно, должно быть, полюбил Женечку, потому что часто подсаживался к ней, смотрел на нее темными глазами и гладил ладошками по лицу.
Впору было умилиться, и богатые родители плакали, сморкаясь в кружевные платки, а бородатый домашний врач, которому платили за осмотр Бубы бешеные деньги, снисходительно одобрял новую гувернантку, хотя и не находил ее хорошенькой. Женечка же не умилялась и не рыдала, она деловито составила распорядок дня – раз и навсегда, и не отступила от него за все годы, что прожила у своего воспитанника, и через какое-то время, к изумлению родителей и к зависти бородатого врача, мальчик заговорил – тихо и медленно, оглядываясь на серьезную и внимательную Женечку, забывая к утру те слова, что выучил вечером, путая буквы и теряясь в водовороте фраз, но все же заговорил, и даже мог нарисовать какие-то печатные каракули. Лучше всего у него выходила ижица – самая ненужная буква.
Богатые родители купили по распоряжению Женечки кучу всяких лото, и она просыпалась по утрам от стука в дверь: мальчик уже ждал ее, держа подмышкой коробку, где перетряхивались и постукивали картонки с уплывающими, ускользающими, такими трудными черными словами: мяч, птица, серсо.
Однажды она взяла отпуск и поехала проведать своих петербургских сестер – до четвертой, самой любимой, в далекий Гельсингфорс ей не суждено было добраться. Вызванная срочной телеграммой в персиковое имение, она увидела, что богатые родители рыдают, бородатый врач тихо торжествует, а мальчик молчит. Тонкую пленочку слов смыло из его памяти за время Женечкиного отсутствия, огромный рокочущий мир, пугая, шумя, угрожающе вздымаясь на дыбы, обрушился на него всей своей безымянной нечленораздельностью, и только когда Женечка, торопливо распаковав свой парусиновый чемодан, достала купленный в подарок пестрый мяч, мальчик узнал его и закричал, захлебываясь: «Луна, луна!»
Больше Женечку не отпускали, теперь петербургские сестры сами навещали ее, только любимой сестре из Гельсингфорса все как-то не удавалось выбраться в гости. И не удалось никогда.
Было опасение, что Женечка может выйти замуж и покинуть персиковую семью, опасение напрасное: юность ее прошелестела и ушла, не привлекая ничьего внимания. Должно быть, появлялись и пропадали в ее жизни какие-нибудь мужчины, нравившиеся Женечке, как в калейдоскопе, если долго его вертеть, иногда выпадает и расцветает ломаной звездой редкое желтое стеклышко... Но ни один не попросил у Женечки ничего, кроме крепкой, истинной дружбы, ничей взор не затуманился при мысли о Женечке, и никто не делал тайны из знакомства с ней – знакомства такого чистого, добропорядочного и облагораживающего. Удивительно хороший человек Женечка, говорил кто-нибудь, и все с жаром подхватывали: о да, изумительный! Просто необыкновенный. А какой честный. И порядочный. На редкость добросовестный. Кристальной души человек!
А впрочем, была у Женечки в жизни одна коротенькая, кривая, убогая любовь, был человек, который смутил Женечкину ясную душу – может быть, на неделю, может быть, на всю жизнь – мы не спрашивали. Но когда она принималась рассказывать, как она жила и кого учила до войны, – жалобно дрожал через уплывшие годы один эпизод, на котором Женечка всегда спотыкалась, и голос ее, высокий и спокойный, вдруг на миг надламывался, и всегда на одной и той же фразе: «Хороший чай, Евгения Ивановна. Горячий». Так ей сказали днем, в три часа, в довоенном феврале, в теплом деревянном доме. Женечка тогда преподавала русский язык в тихом швейном техникуме, прозябавшем где-то на окраине города среди яблонь и огородов. Оторвавшись от премудростей построения «трусов женских зимних» и кофточек-фигаро, неисчислимые поколения молоденьких мастериц окунались в освежающие, расчисленные струи русской грамматики, чтобы, покинув родное училище, навеки забыть пятно Женечкиного лица. Они разбегались по свету, любя, рожая, прострачивая и заутюживая, пели, провожали мужей на войну, плакали, старели и умирали, но, крепко обученные Женечкой, и на ложе любви помнили правописание частицы «не», и на последнем одре, в предсмертной тоске, могли, если бы понадобилось, разобрать напоследок слово по составу.
Замороженным трамваем, сквозь черный рассвет ехала Женечка к швеям, вбегала, холодная и румяная, в протопленное деревянное учреждение и с порога искала того, кто был ей дорог – сутулого мрачноватого историка. А он шел ей навстречу, не замечая, и мимо, – и она не решалась проводить его взглядом. Лицо у нее горело, руки немного дрожали, разворачивая тетрадки, а он ходил по одному с ней дому и думал о своем – вот такая досталась ей любовь.