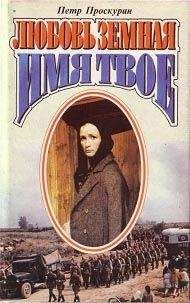Добавив воды в рукомойник, подождав, пока умоется с дороги и сам Захар, теперь уже спокойно, как если бы кормила и обихаживала совершенно чужих, по какой-либо беде или непогоде оказавшихся у нее людей, Ефросинья усадила Васю за стол, пригласила садиться и Захара.
— Спасибо, сейчас, — отозвался он и, повозившись у одного из чемоданов, открыл его. — У нас тут кое-какие свои запасы остались, рыба вяленая… сам делал. — Он выложил на стол вязку сухих карасей, поставил банку консервов, остатки сыра в бумаге. Бутылку спирта, собственно, ради которой и открыл чемодан, он доставать не стал, незаметно засунул ее поглубже, хотя выпить ему очень хотелось, но это, как он в самый последний момент уловил, было бы нечто совсем лишнее, ненужное, что еще больше бы расстроило их обоих, и он, захлопнув чемодан, сел рядом с Васей, неохотно поковырял яичницу, отхлебнул из кружки молока.
— Ешь, Василий, ешь, — сказал он, ободряя мальчугана, а сам опять уронил руку с куском хлеба на стол; нужно было сказать Ефросинье что-то определенное, но начинать разговор в присутствии Васи он не хотел, а говорить что-либо, лишь бы говорить, не мог, и только когда Вася, едва дотронувшись до подушки, уснул и они с Ефросиньей остались вдвоем, Захар решился.
— Я сам не знаю, Ефросинья, зачем сюда приехал, — сказал он медленно, словно на вкус пробуя горечь каждого слова. — Видишь, сивый весь. Да и это я так, ни к чему, А всего лишь сорок восемь и есть. Не знаю, задавило душу что-то. Жил или нет? Где дети? Где дела? Ничего нет, пусто. Ночью лежишь — мелькает, мелькает что-то, провал за провалом, а работал, работал, сколько работал! Из моей работы можно Уральский хребет сложить… горы такие есть, поперек всей нашей земли протянулись…
— Слыхала…
— Железа там много… Илюшка вот остался в техникуме. К заводу его потянуло, в инженеры выбиться хочет.
— Дети что ж, хорошо теперь живут, дай бог каждому, — скупо подтвердила Ефросинья, и он кивнул. Что он мог еще ей сказать и что могла понять в его судьбе она? Сейчас ничего нельзя было скрыть, ни одного движения, ни одной мысли; позади был путь почти в пятьдесят лет, сейчас он представлялся Захару студеной, порожистой рекой, он так ни разу и не мог коснуться дна, несло, несло и наконец вышвырнуло нахлебавшегося мути и грязи куда-то на твердый берег, и он лежал, ничего не различая вокруг, он был рад и тому, что под ним стала хотя бы слегка прощупываться прежняя, почти забытая твердь. Он поднял глаза на Ефросинью, он ничего от нее не ждал и не хотел, ему было достаточно того, что она рядом, что она просто есть, и не важно, как все будет складываться дальше, через день, через месяц или год. Все оказалось проще, чем он сам себе напридумывал в дороге.
— Ну что же, — сказал он, чувствуя сухость и боль в горле от этого своего открытия, — что же, про Ивана так ничего и нет?
— Нет, — уронила она. — Война какая… где уж тут, почти полтораста человек из села пропало. Ну вот, на мою с тобой долю Ваня… а привыкнуть никак не привыкну, как видела его в последний раз, так и остался. Бывает, ночью сердце зайдется, кричит кто-то, кричит, слышу, подхвачусь — никого, тихо… Вот с Егоркой одна пробавляюсь, — добавила она, — ничего, живем. К Аленке в прошлый год ездила внучку поглядеть, горластая такая, ох, говорит, мам, намучилась, сладу никакого…
Ефросинья говорила и говорила, боясь остановиться, ей не по себе было наедине с этим неизвестно откуда и зачем явившимся человеком, с его отсутствием она полностью и навсегда свыклась и если думала о нем, то как о чем-то давно прошедшем, так же, как она думала об умершей свекрови или пропавшем сыне Иване. Она сейчас говорила еще и потому, что хотела показать, как много без него всего было, и что вот они не пропали, живы-здоровы, а дети выросли и живут каждый по-своему, какая кому доля выпала, так и живут, и что в этом сама она уже не виновата.
— Мне бы выйти надо, Ефросинья, — тихо сказал он, потому что понял ее состояние.
— Вон дверь, — кивнула она помедлив и опустила глаза. — В сенцах, с правой руки, сразу во двор… Щеколда там…
Захар встал, неловко выбрался из-за стола и только в сенях, захлопнув за собой дверь и тяжело придавив ее спиной, пошире раздвинул ворот; постояв немного, он вышел во двор, затем выбрался в сад, и ноги словно сами понесли его к старой яблоне китайке. Но ее не было, на ее месте стояло молоденькое, лет шести, кудрявое деревце; это добило его. Опустившись на какую-то молодую, прохладную зелень, он почувствовал свежий, непередаваемо свой, въевшийся в него навечно запах; рука его, словно сама собой, всей пятерней зачерпнула земли, он помял ее в пальцах, понюхал, глубоко втягивая воздух, и тут с ним что-то случилось; он уткнулся лицом в эту землю, судорожно всхлипнул; и что-то тяжкое, что словно давило его непрестанно с момента смерти Мани, стало словно сползать с него, и он смутно понял, что вернулся к самому заветному и что отсюда теперь никуда больше не уйдет.
Он сходил к колодцу, достал воды, умылся, вытерся подолом рубахи и, легкий, какой-то проясненный, вернулся в дом; Ефросинья уже прибрала со стола, а чемоданы и сверток, чтобы не мешали, задвинула поглубже под лавку.
— Уморился я, Ефросинья, — сказал он. — Третьи сутки кое-как, протрешь глаза кулаком, вот и весь сон.
— Иди ложись, я тебе там, рядом с мальцом постелила.
— Спокойной ночи, Ефросинья.
— И тебе, Захар.
Он разделся и, аккуратно составив сапоги, лег рядом с Васей, прислушиваясь к тому, что делает Ефросинья; он слышал, как она, покашливая, ходит, затем шумно дунула, гася лампу, и все затихло.
Он закрыл глаза, какие-то яркие, расплывчатые пятна мелькали в них; Вася рядом всхлипнул во сне, поворочался и опять затих. Сейчас лучше всего было бы встать, прокрасться на улицу и побродить по селу, постоять у озера, сходить к Соловьиному логу. Завтра будет уже не то, о его приезде узнает старый и малый, недаром он подгадал, чтобы приехать в Густищи ночью, хотя причин ему скрываться от людей не было. Так, взбрело в голову, ну и нагородил, а зачем — и самому непонятно. Показалось как-то страшно явиться среди бела для после стольких лет, с каждым здороваться, отвечать на расспросы, выслушивать бабьи охи и ахи, а ведь все это, если разобраться, ерунда, отговорки. Все-таки он опасался, что какой-нибудь густищинский весельчак вроде Фомы Куделина, дружелюбно пожимая руку, видя его одного с ребенком, пошутит в простоте души и спросит, где это он посеял жену, уж не умыкнул ли ее какой-нибудь сибирский каторжник сорвиголова. Или, того хуже, поглядит на мальчонку, поглядит на него самого, Захара, и скажет кто-нибудь, дружески и неподкупно пяля глаза, о похожести, как будто сном и духом ничего иного и предположить не мог.
Захар заснул не скоро, все в том же нервном напряжении, и все время хотел проснуться, но проснуться не мог; тихо текла ночь, прокричали первые петухи, и Захар, кажется, услышал их сквозь сон, и лишь сама Ефросинья не могла сомкнуть глаз; все было ясно — дети, их жизнь, работа, хозяйство, и вот в один момент ее теперь хорошо налаженная и в общем-то спокойная жизнь кончилась, была обрублена; сейчас она почему-то больше всего боялась возвращения с улицы Егора и все время ждала этого.
Прокричал первый петух, на улице перед домом послышались голоса, смех; накатываясь, волна петушиного перепева захлестнула все кругом, собственный петух (Ефросинья все собиралась переменить его, да жалела) куце гаркнул неподалеку, и она шире открыла глаза; на крыльце раздался приглушенный говор, затем все стихло. Скрипнула дверь в сени, и Егор снял сапоги: два раза глухо стукнуло.
— Егорка, — позвала она шепотом, когда он, уверенный, что мать, как всегда, спит, осторожно подошел к столу, намереваясь отломить хлеба.
— Чего, мам? — быстро спросил он. — Ты чего, опять голова?
— Тише, тише! — остановила его Ефросинья, невольно косясь в сторону двери в горницу. — Гости у нас, Егорка, батька твой, Захар Тарасович, пожаловал с младшим своим. Накормила я их, спят. Стой! Стой! Ты что? — Она успела ухватить его за рукав, и Егор, рванувшийся к двери, отошел, сел к столу. — С дороги они, намученные, — сказала Ефросинья. — Завтра увидишь. Маня-то Поливанова померла родами, — добавила она неожиданно, вроде бы ни к селу ни к городу, вслух высказывая то, о чем непрестанно думала, и окончательно смутила Егора.
Он разделся, лег, но забылся коротким сном только перед самым утром, но и во сне его не покидало изумленно-радостное ожидание, в любой момент он готов был вскочить, и действительно, после третьих петухов (вторых он все-таки не услышал) он сел на лавку, прислушиваясь.
Мать спала, он это уловил по еле доносившемуся ее дыханию; окно серовато проступало. Егор стал бесшумно одеваться, затем в нерешительности опять опустился на лавку. Все эти годы он помнил отца и много думал о нем, а последнее время уже не однажды рвался съездить на далекую Каму — всякий раз что-нибудь мешало этому, и больше всего страх Ефросиньи перед неизвестностью дальней дороги, перед тем извечным чувством матери, что сын еще, достигни он хоть двадцати лет, мало что смыслит в жизни. Егор неясно вспоминал большие, сильные руки, и, словно он был по-прежнему ребенком, возникало чувство полета, словно кто-то опять отрывал его от земли и подбрасывал высоко вверх; при этом у Егора в глазах всплескивалось что-то голубое, просторное и в теле появлялась солнечная легкость; он всегда несколько стыдился этого детского чувства, хмурился, но ничего поделать с собой не мог. И вот теперь отец был рядом, всего через неплотно притворенную дверь с зеленым квадратом стекла поверху, и Егор как-то даже не верил этому. Все, о чем ему коротко сообщила мать, мало его интересовало; ему казалось, что ночь тянется бесконечно. Чтобы как-нибудь убить время, он тихонько вышел на улицу и, поеживаясь от зоревой прохлады, долго бесцельно бродил, постепенно успокаиваясь, среди яблонь и груш в саду. Раньше он как-то не обращал особого внимания на яблони, на солнце, на поля вокруг; все это связывалось у нею по-крестьянски практично с необходимостью работы, с хлебом; если урожай был хорош, он безмерно радовался от своего в этом участия. Но вот теперь он увидел и небо, и еще темную, едва угадывающуюся даль полей, и крышу собственного дома, и те же яблони как то иначе; несмотря на холодную, обильную росу, придающую всему вокруг особую отрешенность, он, наоборот, ощутил легкость и какую-то светящуюся тайну во всем; и яблони с упругими, мокрыми листьями, и сырая земля, и придвинувшееся, с огненно-яркой полосой на востоке, небо, и заливчатое пение невидимых жаворонков в небе — все словно излучало тепло, казалось, еще минута-другая — и случится что-то такое, чего он еще не знал, но что ему необходимо, что сразу изменит всю его жизнь. Всего два или три часа назад он провожал домой Вальку Кудрявцеву, затем слонялся с ребятами по улице, одни предлагали идти купаться на озеро, другие — всем кагалом завалиться к Зинке Полетаевой и гулять до утра, благо у нее всегда можно было разжиться чем-нибудь горячительным. Петька Астахов, зубоскаля, тотчас сказал, что Зинка что хочешь отдаст, даже самое себя, если Егор Дерюгин согласится идти с ними; все стали его упрашивать, и он, внезапно вспыхнув, послал всех подальше и зашагал домой. С этой Зинкой Полетаевой прямо беда, подумал он, какая-то бесстыжая… И чего она к нему прицепилась, как репей? Где ни увидит, сожрать глазами готова, хотя сквозь землю проваливайся… Валька… сегодня весь вечер дулась, посидеть на крыльце не захотела… Хотя бы подходил скорей день призыва, служба пройдет, там видно будет. И мать теперь не одна, бояться за нее нечего.