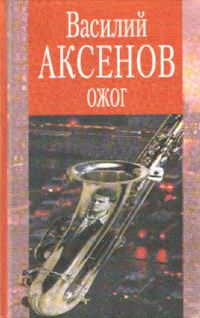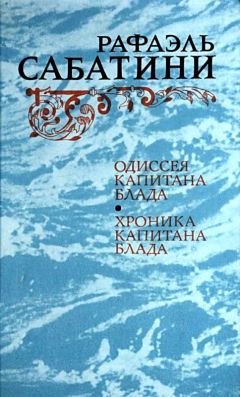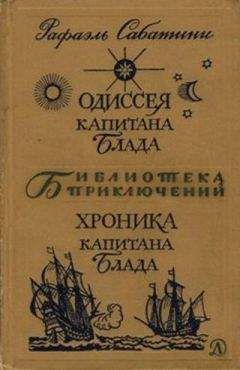Тем не менее я подошел и сел рядом со стариком на ящик из-под мыла. Праведник кивнул мне и поднес свою древнюю руку ко рту. Я увидел, что он перетирает губами и деснами малый кусочек земляничного печенья.
– Здравствуй, дедушка! – сказал я ему в ухо. – Здравствуй, российский Гомер. Какие всадники летят в твоей памяти? Какие корабли горят на твоих берегах? Стоит ли еще Троя? Цветет ли Рязань?
– Здравствуй, – отчетливо сказал старик. – У нас большие успехи на фронте клубневых культур. Передай питерскому пролетариату, пусть держится, а мы им с голоду не дадим умереть! Смерть врагам революции! Хрущева партия раскрыла как помещика и богача, он меня на станции Бахмач отдал уряднику для феодального истязания. Множество выкидышей скота в истекшую пятилетку – прямое следствие последышей махрового троцкизма. Многие незрелые граждане отравляют колодцы, где будет идти красная кавалерия. Почему район не прислушивается к сигналам с мест? Иной раз пацанка пацанкой гуляет, а штанишки с ее сымешь, там живая баба. Я нонче сам картошки накопал семьсот пудов для питерских рабочих. Мне лично пришло письмо от товарища Шверника, он разъяснил ситуацию по дальнейшему укреплению колхозного строя, и персональную пенсию мне выдали, семнадцать рублей, за своевременное изъятие излишков цветных металлов у кулачья. Ой, говорит, дяденька, больно, ой, говорит, бо-бо, а я ей говорю – не бо-бо, не бо-бо, а мамаша пусть яичницу соображает, а то всех на гумно вытянем, где уже лежат наши враги, как резаные боровы. Мне лично товарищ Шверник семнадцать рублей в месяц положил вследствие разоблачения культа личности, и мы в условиях штурма вершин не остановимся ни на шаг!
Я закрыл глаза ладонями. Синильный шепот палача не умолкал, но как будто стал тише, словно он проникал в мое сознание не сквозь уши, а сквозь глаза.
– Оставь его, – сказал отец. – Это очень жестокий человек. Когда-то он был в нашем отряде, но мы все ушли на фронт, а он остался здесь в ГПУ и тиранил население. Нет такого дома в нашем селе, где бы он не бесчинствовал. Пойдем, сын, плюнь на него, он в маразме.
Мрак застилал мою душу, я заполнялся мраком, словно древний воздушный шар древесным дымом, и не улетал лишь потому, что праведник-палач железной хваткой, словно якорь, держал меня за колено.
– Бо-бо, говорит, бо-бо, а где самовар прячете, кулачье? Гидры нашу классу терзают, а вы блины из гречки жрете? Картови, моркови, огурчиков, всего дадим, капусты, гусятины по ордерам… питерским рабочим…
Когда я открыл глаза, в сельпо происходило движение. Хозяйки отходили со свертками от прилавка, и каждая что-то бросала шамкающему праведнику на мешковину – то сушку, то карамель, то маслица кусочек в газетке…
– Смотри лучше на женщин, смотри, смотри, вот в них и тайна, – шептал отец.
Они шли мимо нас в своих кургузых кофтах и телогрейках, в резиновых сапогах, осевшие, раздавшиеся, бездумно-добрые женщины без возраста, и я видел, что это идут мимо все мои бабы, все мои некогда нежные сучки: Машка Кулаго, Ниночка-пантомимисточка, Тамарка и Кларка, Наталья Осиная Талья, Арина Белякова… – бедные, что с вами стало?
И вдруг одна метнулась ко мне от прилавка, запрыгали по кафельному полу субпродукты, расплавилось животное масло. Она была голая под своей телогрейкой, с торчащими грязноватыми ключицами, с торчащими грудями, голая со своим пожухлым, но юным лицом, с огромными и синими глазами-тревогами, моя Алиса-полонянка из колымского этапа.
– Беги, фон Штейнбок! Срок схлопочешь! Видишь, рафик сюда едет? Беги! Забьет тебя наш актив!
Я глянул сквозь стеклянную стену. По соловьиной стране, по сиреневым буграм подползал к сельпо украденный мной рафик, «скорая помощь» без водителя, с раскрытыми болтающимися дверями, с зажженными подфарниками, тупо ухмыляющийся и как будто ищущий чего-то, кого-то. Меня! Своего вора!
Теперь уже все смотрели на приближение автомобиля. Раскрылись двери шалмана, и на пороге встал весь актив. Братья Пряхины тихо ко мне подползали сзади. Гипсовый божок сидел на постаменте, нога на ногу, и курил в снисходительном ожидании развязки. Игорь Плюзгин спрыгнул с колец и теперь летел к центру событий в замедленном сальто. Все мгновение безумно затянулось.
– Там у нэго внутры пакойнык! – густым псевдогрузинским голосом сказали с постамента.
Игорек наконец приземлился, четко, без помарок, на высший балл. Быстро причесавшись, шагнул к фургончику и сделал знак братьям Пряхиным:
– Подведите задержанного!
Рафик разворачивался в луже, подставляя задок. Братья вели меня к нему, взяв за локти медвежьей хваткой. Все приближались кольцом, народ и актив.
В рафике на носилках действительно сидел покойник – оплывший, как стеариновая свеча, и затвердевший Чепцов. Равнодушным мрачноватым взглядом он смотрел на русских людей. Он что-то медленно курил, но без дыма.
– Шмонин, пиши протокол! – бойко распорядился Игорек и с вежливым прищуром повернулся ко мне. – Где взяли покойника, гражданин?
– Товарищи, это вовсе не покойник! – нервно вмешался мой отец. – Взгляните, товарищу оказана своевременная помощь, он реанимирован! Клянусь, он выглядит сейчас значительно лучше, чем в 1949-м, когда в управлении Берлага, в бараке усиленного режима, применял к нашему брату методы активного воспитательного воздействия.
– У меня претензий нет, – хмуро сказал Чепцов собравшимся. – Все было в пределах инструкций. Я уничтожен оживлением путем введения в организм чужой Лимфы-Д.
Медлительно, но уверенно он вылез из рафика, встал на колени в лужу и возопил огромным, все нарастающим и бесконечным, как гром космической ракеты, рыком:
– Люди, покайтесь!
Тут выскочил скакунчиком-дворняжечкой наш старичок праведничек с белыми глазками.
– К стенке! К стенке всех! – завизжал он. – А это… – он развязал свою котомку и высыпал в лужу сушки, печенье, пряники, колбасные довески, почечки, сердчишки, катышки сальца, карамельки, – а это дитям, дитям отдайте! В детский садик! Блокадникам! Пусть хавают! Мне ничего не надо!
– Беги, пока не поздно! Беги на юг! – шепотом крикнул мне отец. – Беги без оглядки!
…Ревел двигатель, дико кашлял разболтанный глушитель. Дергая кулису передач и бестолково газуя, я пытался выбраться из лужи. Я знал, что уже мне не выбраться, что я опоздал на одну минуту, что сейчас меня выволокут на судилище актива и суд будет короткий и неправый.
Правый или неправый – кто знает? Быть может, они правы, жулики, лицемеры, держиморды? Все-таки вот они, их аргументы – сушки, печенье, масло в сельпо, хоть и дрянь, хоть и обман, но все-таки лучше, чем ничего… А где же наша-то правда, дорогой полужид?
Вдруг все мгновенно успокоилось. Мотор мягко зажурчал, и мы понеслись по ночному гладкому шоссе с яркой белой разделительной полосой. Мягкая ласковая страна Россия пролетала по сторонам, хорошо освещенная луной. Жаркий и волнующий ветер влетал в кабину через ветровичок. Скорость увеличивалась, дыхание успокаивалось, обе половинки мои, еврейская и русская, сошлись. Я летел куда-то, я был спасен, я мчался, должно быть, на юг, в юные года, в живые дали!
Впереди замаячило несколько фонарей, светящаяся полоса стекла, замелькали знаки, покрытые светящейся катафотовой краской: снизь скорость до 80, до 60, до 40… пост ГАИ.
Над дорогой, на бетонной полудуге висел освещенный изнутри аквариум, и в нем два офицера спокойно пили чай, закусывали булкой. Желто-синяя «Волга» и мотоцикл спокойно стояли внизу. Над перекрестком спокойно пульсировала мигалка. На четыре стороны расходились посеребренные луной дороги. Я медленно, как и предписывается, выезжал на перекресток, вглядываясь в пучок стрелок на столбе. Офицеры из аквариума лишь покосились на мою машину и снова сосредоточились на чае.
Вдруг с удивительной живостью над близкой рощей выросла гибкая мощная шея, и жесткие челюсти динозавра мгновенно пожрали луну. В неожиданном мраке взвыла сирена. Со всех сторон отчаянно завизжали разнокалиберные тормоза, надвинулись слепящие фары. Вспыхнувшее зеркальце заднего вида выжгло мне левый глаз, а правый залепил шлепок раскаленного мазута. Я почувствовал сильный удар под колесами, что-то хрустнуло. Поняв, что случилось что-то непоправимое, я выжал тормозную педаль и заглушил двигатель. Сильные руки выволокли меня из кабины, ткнули носом под колеса в желтый кружок фонарика.
– Смотри, хуесос, – твоих рук дело!
Под колесами находился передавленный на две половинки подполковник Чепцов. Нижняя часть его агонизировала, словно огромный паучище, сучила ногами и подпрыгивала, тогда как верхняя часть спокойно лежала, подложив правую руку под голову, а левой вытаскивая что-то из наружного кармана кителя и спокойно поедая. Без всякого выражения, но густо раздавленный произнес: