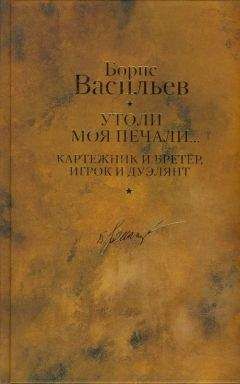– Да?..
– То есть совсем без интересов. «Да – нет», вот и вся беседа. А тут – разговор целый! Потому вас и потревожила.
– И очень правильно сделала, спасибо тебе.
– Задремала она, я и спустилась. Когда проснется, я вам скажу, если что новенькое замечу.
Грапа стала подниматься по лестнице, а Варвара тотчас же поспешила в столовую.
– Наденька разговаривала! – с торжеством объявила она. – Вами интересовалась, Аверьян Леонидович. И Машей.
– Мной и Машей? – Беневоленский был очень удивлен.
– Прав был Викентий Корнелиевич, сердце у него – вещун, – взволнованно объявил Роман Трифонович. – И ты, Коля, прав. И… и все мы правы, что вытащили ее из больницы. Она здесь скорее окрепнет, оглядится…
– И вспомнит о своей горничной, – вздохнул Василий. – Разбередит душу свою.
– Да. – Иван грустно покачал головой. – Только не горничной она была для Наденьки, она ее подружкой была. Помнишь елку в Высоком, Аверьян, Рождество…
– Гадания их, – напомнил Беневоленский. – Подруга, конечно, девичья подружка. Но Наденька почему-то вспомнила о Маше. О Маше и обо мне…
– Знаете… – вдруг робко сказала Анна Михайловна. – Извиняюсь, конечно, только подумала я, что отвлекать ее надо. Все время отвлекать. Ну, как с детьми, понимаете? Ребенок к ножницам тянется, а вы ему вместо ножниц – погремушку. Погремит она, дитя заслушается и про ножницы забудет.
– Наденька – не ребенок, – с досадой заметил Николай. – У тебя все примеры – из детской.
– Это и хорошо, – одобрил Василий. – У дитяти душа чистая, ничем еще не замутненная. Божья естественная душа.
– А у Надюши – Божья замутненная, – проворчал Хомяков. – Интересы что ростки в марте. Один чудом прорвался, а как все обрадовались? Как знамению.
– Не согласен я с тобою, Роман. – Иван вздохнул, отрицательно покачав головой. – А с Васей – согласен.
– Как именно Наденька вспомнила о Маше? – неожиданно, почти докторским тоном спросил Беневоленский.
– Как вспомнила? – Варя на секунду задумалась, припоминая, что говорила Грана. – Она сказала: «Я сейчас – Маша с бомбой». Да, да, так и сказала.
– Маша с бомбой…
Аверьян Леонидович до сей поры в разговоре не участвовал. Нехотя ел, нехотя пил и все время о чем-то напряженно думал, сведя брови на переносице. А после ответа Вари вдруг отложил салфетку и решительно поднялся из-за стола.
– Извините, господа. – Он помолчал, будто еще раз проверял уже принятое решение. – Я должен… Нет, я обязан, как врач обязан поговорить с больной.
– Как?.. – растерялась Варя.
– Серьезно, как с абсолютно здоровым человеком. Не о том, как она себя чувствует – это Наденьку, боюсь, уже начало раздражать, а о… о Маше. О справедливости не для себя.
– Но Наденька спит…
– У дверей обожду! – резко ответил Аверьян Леонидович и быстро вышел из столовой.
Все молчали.
– Может быть, он прав, – тихо сказал Иван. – Очень может быть, что Аверьян прав…
– Ох, боюсь я этого разговора, – вздохнула Варя. – Опять о трагедии, опять о гибели.
– Наденька Маши не знала, – напомнил Николай. – Для нее она – легенда. Возвышенная гордая легенда, не более того. Как и для всех нас, впрочем.
– Заново, стало быть, опыты над живым человеком ставим? – нахмурился Хомяков. – Врачей, врачей надо завтра же собрать. А лучше – сегодня. Прямо сейчас!
– Неправильно вы говорите, неправильно! – вдруг торопливо заговорила Анна Михайловна, точно боялась, что ее вот-вот перебьют. – С детьми надо по-взрослому разговаривать, только по-взрослому. Потому что они и есть взрослые, только что – маленькие еще.
– Наденька у нас достаточно большая, – усмехнулся Николай. – Тут твои рецепты не подходят, Аничка.
– Ты не прав, Коля, – строго сказал Василий. – Душа возраста не имеет, она Господом на всю жизнь вложена. И когда мать с ребенком говорит, она к душе его обращается, а не к разуму. И душа дитяти ей откликается. А все остальные – и отец, в том числе – к разуму апеллируют, почему малые дети без матери – круглые сироты. Одинокие в миру. Мама – первое слово, которое человек произносит. И, наверное, последнее, когда душа его отлетает. Альфа и омега жизни человеческой, вот что такое – Мать.
– Нас вспомни, Коля, нашу маменьку, к душам нашим обращавшуюся, – вздохнул Иван.
– Вспомнил, Ваня, – тихо сказал Николай и встал. – Вечная память маменьке нашей и вечная ей благодарность.
И все поднялись, низко склонив головы…
3
Аверьян Леонидович терпеливо сидел в будуаре, ожидая, когда Грапа скажет, что Наденька проснулась, и позволит войти в спальню. Он понимал, что разговор должен быть серьезным, но при этом не забывал, что форма этой предстоящей серьезной беседы одновременно должна была быть занимательной. Очень занимательной и по возможности короткой, потому что на длительное внимание рассчитывать было нельзя. Запас внимания в Наденьке был сейчас весьма ограничен, но пределов этой ограниченности Беневоленский не знал, а потому продумывал каждое свое слово. Особенно – первое, ключевое. «Ключевое, – думал он. – Но всякий ключ несет в себе две функции: отпирать и запирать. И если я поверну его неправильно, если ошибусь, Наденькина душа замкнется передо мной. И, может быть, замкнется навсегда…»
– Проснулась, – сказала горничная, выйдя из спальни и тщательно прикрыв за собою дверь. – Я сказала о вас, Аверьян Леонидович.
– Она ждет?
– Она долго молчала, а потом говорит: «Если надо».
– Могу пройти к ней?
– Обождите. – Грапа помолчала. – Она может не отвечать, но все слышит, понимаете? Я к тому, чтоб терпенье у вас было. И не повторяйте сказанного, нервничать она начинает.
– Вы – замечательная сиделка, Грапа, – улыбнулся Беневоленский. – Остановите меня, если я ненароком не то брякну.
Горничная искренне обрадовалась:
– Дозволяете мне при разговоре вашем?
– Без вас ничего у меня не выйдет, – серьезно сказал Беневоленский. – Ну что, с Богом?
Грапа кивнула и молча перекрестилась.
Наденька лежала, привычно прикрыв глаза. И в ответ на приветствие Аверьяна Леонидовича не открыла их, но губы ее чуть заметно дрогнули. «Хорошо бы ей глазки открыть,» – подумал он, садясь у ног.
– А Машино колечко опять со мною срослось. – Он повертел ладонью единственной правой руки. – Будто и не снимали мы его для ваших крещенских гаданий.
Наденька распахнула глаза, дрогнув длинными ресницами. Посмотрела, выпростала из-под одеяла руку, указательным пальцем дотронулась до обручального кольца, с которым намеревалась когда-то гадать. В Высоком, давным-давно. В другой жизни.
– Маша упала на бомбу.
Она не спрашивала. Просто докладывала, что знает и помнит. Чтобы не сочли безнадежной.
– Она не упала, она закрыла ее, чтобы не пострадали дети. И дети не пострадали. Совсем не пострадали. Машенька спасла их ценою собственной жизни.
– Жизнь важнее.
– Детская – безусловно.
– Нет. Своя.
«Она борется за свою жизнь, – промелькнуло в голове Беневоленского. – Только за свою, а потому все отбросила. Все нравственные надстройки. Надо о них, непременно о них. Она должна вспомнить… И сказал:
– Если бы каждый берег только свою жизнь, человечество давно бы погибло.
– Человечество топчет людей. – Наденька произнесла эту фразу раздельно, жестко выделив каждое слово.
«Неправильно, не то говорю! – тотчас же спохватился Аверьян Леонидович. – Логически сейчас ничего ей не докажешь. Нужен пример, пример…»
– Топчет, не спорю. Конкистадоров помните, Наденька? Свирепо жестокие были господа. За горсть золота пытали, мучили, истязали до смерти несчастных индейцев, не понимающих, за что их убивают целыми племенами.
Он сознательно помолчал, чтобы проверить, слушает ли его больная.
– Кортес, Писарро, – с некоторым напряжением сказала она.
«Слушает!» – почти с ликованием понял он. И с огромным облегчением продолжал:
– Мне как-то попались любопытнейшие воспоминания одного из этих молодцов. Никак не могу припомнить имя… Но не в имени суть. Он с подобными себе товарищами поймал как-то индейца, знающего дорогу к богатейшему храму. Они начали его допрашивать – индеец молчал. Бить – молчал. Пытать – молчал. Подвесили над костром, начали поджаривать его, живого, – все равно молчит. Устали палачи, и один из них потянулся к неведомым красным ягодам. Сорвал кисть, поднес ко рту…
Аверьян Леонидович сделал вид, что закашлялся, пробормотал «извините». Только, чтобы проверить, слушают ли его…
– Точно кисти винограда, – прошептала Наденька, и горькая улыбка чуть скользнула по губам.
– Точно кисть винограда, – тут же подхватил Беневоленский. – И вдруг доселе молчавший, почти до смерти замученный индеец что-то сказал. «Что он сказал?» – спросил тот, который соблазнился красивой кистью. «Он просит тебя не есть этих ягод, – сказал автор воспоминаний, знавший местный язык. – Они очень ядовиты, и ты умрешь в мучениях». Почти замученный жестокими пытками индеец сберег жизнь своему мучителю, представляете, Наденька? Извергу рода человеческого, палачу, только что пытавшему его!