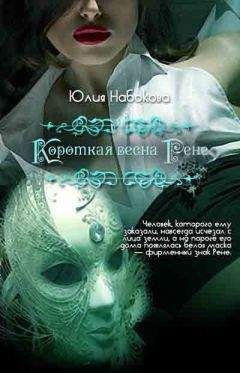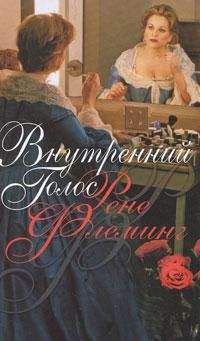В разговорах с Бергманном я предпочитал не касаться политических воззрений Лоуренса. «Фашисты… Коммунисты… Вся эта мышиная возня стара, как мир, — говорил монтажер. — Что вы все носитесь с этими рабочими, словно с ума посходили? С души воротит, ей-богу. Рабочие — это стадо. Так было всегда. И так будет всегда. Они сами стали тем, кем стали, так ветер им в спину! Это их жизнь. Пусть сами расхлебывают. Оглянись вокруг. Никто ничем не интересуется, всех волнует только, когда и сколько им заплатят на этот раз. А если случается что-то выходящее за рамки их прямых обязанностей, они усаживаются и ждут, пока придет добрый дядя и все само собой образуется. И пребывают в уверенности, что именно так и должно быть. Страной должно править меньшинство. Надо только избавиться от политических болтунов. Политики — дилетанты. Это все равно как если бы студией руководил рекламный отдел. Другое дело — технари. Они знают, чего хотят».
— И чего же они хотят?
— Они хотят дело делать.
— То есть?
— То и есть. Делать дело ради самого дела.
— Но зачем его делать? Ради чего?
— Чтобы искоренить анархию. Ради этого человек и живет. Чтобы очищать жизнь от всякой грязи. Создавать примеры для подражания.
— Зачем?
— Чтоб было. Чтобы был смысл. Ради чего же еще?
— А как быть, если что-то не вписывается в эту картинку?
— На свалку.
— Еще скажи, что надо уничтожить евреев.
— Иди к черту со своими дурацкими аналогиями. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Если люди не желают подчиняться установленным правилам — им же хуже. Я-то тут при чем? Гитлер правил не устанавливает. Он оппортунист. Создавая правила, ты никому не мешаешь. Правила — это тебе не люди.
— Ну и кто из нас ретроград? Это же точь-в-точь основа «Искусства ради искусства».
— Не морочь мне голову… Настоящие художники — это технари.
— Когда в руках ножницы, как у тебя, можно и правила создавать. А мне куда прикажешь деваться с той же «Фиалкой Пратера»?
— Это пусть у вас с Чатсвортом и Бергманном голова болит. Если бы вы, господа творцы, брали пример с технарей, держались вместе и прекратили наконец играть в демократию, то народ бы, как миленький, ходил на те фильмы, которые бы вы делали. А то устроили ярмарку — то кино, это кино… Хотите всем угодить, а так не бывает. Договорились бы между собой не выпускать ничего, кроме, скажем, абстрактных фильмов, — и зритель бы никуда не делся, пошел бы на то, что дают, а глядишь, и понравилось бы… Ладно, что толку воздух сотрясать… Стержня в вас нет, вот что. Хаете проституцию, а сами по-тихому клепаете свою «Фиалку». За это вас и презирают, тоже по-тихому. Публика прекрасно знает, что все решает большинство… Да, вот еще что. Ко мне со своими творческими муками лезть не советую. Тут я тебе не советчик.
Съемки начались в конце января. Точнее сказать не могу, потому как это последнее, что я запомнил более или менее определенно. Все, что последовало за этим, настолько слилось и перемешалось в моей голове, что наружу всплывают только какие-то бессвязные обрывки воспоминаний. Стройно и последовательно изложить их я не в силах. Так, что вспомнится…
Съемочный павильон с обитыми войлоком стенами напоминает огромный ангар, в котором запросто можно упрятать дирижабль; о смене дня и ночи можно лишь догадываться по тому, как все внезапно приходит в движение и так же неожиданно затихает. Под балочным сводом, усеянным закопченными софитами, чей далекий отблеск напоминает холод неведомых планет, громоздятся какие-то немыслимые, полуразобранные останки бутафорских конструкций: арки, стены домов, деревья, холщовые полотнища холмов, гигантские фотозадники, фрагменты улиц, напоминающих Помпеи, только еще более заброшенные, более жуткие, потому как знаешь, что все это ненастоящее, это в буквальном смысле — полумир, узилище зеркальных отражений, город, лишенный третьего измерения. Только змеиный клубок проводов принадлежит этому миру, он абсолютно реален и постоянно норовит захлестнуться вокруг ног, стоит лишь неосторожно попасть в его орбиту. Эхо шагов отзывается неожиданно гулко, ловишь себя на том, что крадешься на цыпочках.
Посреди этих руин теплится жизнь. Пронзительный свет падает на одинокую декорацию. Издали кажется, что попал к алтарю, вокруг которого застыла стайка адептов. Но это всего лишь комната Тони, обставленная в духе времени: веселенькие занавески, клетка с канарейкой, часы с кукушкой. Те, чьими руками создавался этот прелестный кукольный домик, деловито, с равнодушной бесстрастностью оглядывают плоды своего труда — словно это какой-то захудалый гараж.
Безмолвными разряженными статуями стоят актеры, которым предстоит озвучивать Артура Кромвеля и Аниту Хейден. Уоттс, тощий лысый человек в очках с золотой оправой, суетливо бегает взад-вперед, выбирая точку съемки. На шейном шнурке болтается монокль с голубоватыми стеклами. Уоттс то и дело подносит его к глазам, проверяя, так ли выставлен свет. Этот жест совершенно не вяжется с его видом, придавая ему сходство с щеголем эпохи Регентства.[40] Рядом с ним крутится огненно-рыжий Фред Мюррей, любой обуви предпочитающий кеды. На студийном жаргоне он «гаффер».[41] Правила здешнего этикета не позволяют Уоттсу давать указания лично. Он передает их Фреду, а тот, как толмач, надрывно выкрикивает их тем, кто работает на подвесных лесах на самой верхотуре.
— Накиньте на пушку затенитель. Пару проходов на четвертый. Погасите бебик.
— Готово, — удовлетворенно сообщает Уоттс.
— Годится, — гаркает Мюррей ассистентам. — Так и оставьте.
Дуги[42] меркнут, загорается свет. Кукольный домик теряет свое зыбкое очарование. Расходятся дублеры. Возникает ложное ощущение завершенности, хотя все еще только предстоит.
— Все приготовились! — Это Элиот, помощник режиссера, человек с заостренным длинным носом и старательно-ученической манерой выговаривать слова. Он держит сценарий, как святыню студии. Он хочет казаться значительным, но у него это плохо получается. Мне жаль его. У него собачья работа. Его задача — следить, чтобы все кипело и бурлило, но добиться этого, не срываясь на крик, практически невозможно. Он не знает, как себя вести со старшими по возрасту, с рабочими павильона… Он стесняется своего тонкого, хотя и хорошо поставленного голоса. Воротничок его рубашки так накрахмален, что стоит колом и трет шею.
— Почему опять стоим? — безнадежно вопрошает Элиот в пространство, ни к кому в отдельности не обращаясь. — Что там у вас, Роджер?
Звукооператор вполголоса чертыхается. Он ненавидит, когда его подгоняют.
— Микрофон барахлит, — объясняет он с ядовитым терпением. — Слишком крикливые декорации… Тедди, бум[43] чуть левее. Нам понадобится этот цветочный горшок.
Кран отъезжает, таща за собой микрофон, как удочку. Тедди ныряет в декорации и прячет второй микрофон позади китайской статуэтки, украшающей стол.
Откуда-то из-за задника слышится голос Артура Кромвеля:
— Где наш дражайший Ишервуд?
Артур играет отца Тони. Этот пышущий здоровьем красавец с породистым лицом и благородной осанкой обожает играть на публику и пользуется огромным успехом у женщин. Он хочет, чтобы я прослушал его роль. Забывая слова, он, нисколько не смущаясь, прищелкивает пальцами и начинает импровизировать.
— В чем дело, Тони? Разве тебе еще не пора быть на Пратере?
— Разве ты не собираешься сегодня на Пратер? — поправляю его я.
— Разве ты не собираешься сегодня на Пратер? — В сценарном варианте фраза явно режет чуткое артуровское ухо. — Будто каша во рту… Я себя не слышу… Может, лучше: «Как, разве ты еще не на Пратере?»
— Годится.
— Ишервуд! — зовет Бергманн. (Перебравшись на студию, где всегда полно народу, он стал обращаться ко мне по фамилии.) Заложив руки за спину, он размашистым шагом направляется к выходу, не удосужившись обернуться, чтобы удостовериться, иду ли я следом. Мы проходим двойные двери и оказываемся на лестнице, ведущей к пожарному выходу. Сюда приходят поговорить или покурить, потому как в самом помещении курить запрещалось. Я киваю сторожу, лорнирующему газету «Дейли геральд». Он у нас страстный почитатель Советской России.
Мы стоим на узкой железной платформе; вдалеке за крышами домов холодно серебрится серая река. После спертой духоты студии влажный воздух кажется восхитительным. Легкий ветерок, пробегая мимо, запутался в густой шевелюре Бергманна.
— Как вам эта сцена? Годится?
— Да вроде все нормально, — я пытаюсь придать голосу убедительность. На меня еще с утра накатил приступ лени, и забивать себе чем-то голову совершенно не хочется. Мы утыкаемся каждый в свой экземпляр сценария — я старательно изображаю на лице задумчивость. После бесконечных читок слова утратили для меня свой первоначальный смысл.