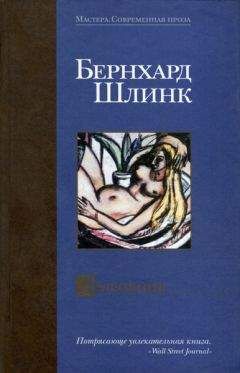Ты хочешь видеть меня. Но до возможной встречи еще далеко, если она вообще состоится.
Т.Он уже несколько месяцев не пользовался своей машиной. Пришлось пригласить человека из мастерской, чтобы тот помог запустить двигатель. Он слегка отвык от вождения, но это не доставляло особенных неприятностей. Включив радио, он приоткрыл люк на крыше, впустил свежий весенний ветерок.
Последний раз он ехал этой дорогой вместе с женой. Она была уже очень больна, исхудала до невесомости; он спустился, неся ее, закутанную в одеяло, на руках, по лестнице, пронес по улице до машины. Ему нравилось укутывать ее, брать на руки, нести. Перед выездом он вымыл ее, причесал, чуточку надушил туалетной водой, от макияжа она отказалась. Он нес ее, чувствуя легкий запах туалетной воды, она же вздыхала и улыбалась.
Это воспоминание оставалось ничем не омраченным. Он вообще заметил, что новые обстоятельства никак не коснулись воспоминаний последних лет, лет ее болезни и смерти. Будто существовала одна Лиза, любви которой он искал и с которой он основал семью, прожил жизнь, и другая, которая медленно угасала и угасла. Будто болезнь и смерть выжгли все то, за что могла зацепиться ревность.
Дорога вела через поля и леса, мимо маленьких населенных пунктов с их образцовым порядком, свежей побелкой стен, аккуратной кирпичной кладкой, да и природа в палисадниках и садах казалась приведенной в такой же образцовый порядок с его светлой зеленью кустов и деревьев, с пестротой цветов. Улицы пустовали, дети сидели в школе, взрослые находились на работе. Иногда в промежутках между населенными пунктами попадалась встречная машина, трактор или грузовик. Он любил этот холмистый край между горами и равниной. Это была часть его и Лизиной родины, которой она хранила верность, даже когда началась его министерская карьера, приведшая их в столицу. Они не отказались от здешнего дома, дети продолжали ходить в местную школу, он метался между двумя домами, иногда приезжал на одну ночь, иногда жил несколько дней подряд, иногда целую неделю. Дети тоже были привязаны к этому краю. Если потом они и переезжали куда-то, то недалеко. До дочери можно было добраться за час, до сына — за два, а если ехать побыстрее, да еще по скоростной магистрали, то время поездки можно было сократить едва ли не вдвое. Впрочем, сейчас он не спешил.
Он попробовал настроиться на предстоящий разговор с дочерью. Что следовало рассказать ей о Лизе, о себе, о Другом? Как спросить, не разговаривала ли Лиза о нем и о Другом? По его мнению, Лиза была очень близка с дочерью, но уверенности не было. Помнилось, что Лиза и дочь любили держаться за руки, помнилось, что дочь, приходя домой, сначала звала мать, и что Лиза, уезжая с ним в отпуск, часами разговаривала с дочерью по телефону. Только все эти воспоминания относились к тому времени, когда дочь была еще подростком.
9
— О чем ты хотел поговорить со мной?
Дочь задала вопрос, застилая ему на ночь кушетку в гостиной. Он вызвался ей помочь, но она отказалась, поэтому он стоял рядом, сунув руки в карманы. Вопрос прозвучал холодно.
— Поговорим завтра.
Расправив одеяло, она выпрямилась.
— С тех пор, как мама умерла, мы пытались пригласить тебя к нам; мне казалось, что нам обоим станет полегче, если мы будем ближе, потому что… Ты потерял жену, я потеряла мать, к тому же Георг и дети обрадовались бы твоему приезду. На приглашения ты не откликнулся, чем очень меня огорчил. А теперь приезжаешь, хочешь говорить. Все как раньше, когда ты месяцами забывал про нас, потом вдруг в воскресенье решал отправиться с нами на утреннюю прогулку, затевал разговор. Нам ничего путного не приходило в голову, ты раздражался, поэтому лучше уж переговорить сейчас, чтобы дело было сделано.
— Неужели это было так скверно?
— Да.
Он уставился на собственные ботинки.
— Мне очень жаль. Я подолгу бывал очень занят, терял с вами контакт. Начинались угрызения совести, но я не знал, о чем с вами говорить. Отсюда даже не раздражение, а отчаяние.
— Отчаяние? — В голосе дочери послышалась ирония.
Он кивнул. «Именно отчаяние». Ему захотелось объяснить, как была устроена тогда его жизнь, как он чувствовал, что теряет доверие детей и мучился этим. Но взглянув на дочь, он увидел по ее лицу заведомое неприятие того, что он собирался сказать. Лицо было строгим, суровым. В нем еще угадывалась та веселая, добродушная, доверчивая девчушка, какой она была когда-то, но добраться до нее, докричаться было для него уже невозможно. Нельзя было и спросить, как жизнерадостная девчушка превратилась в суровую женщину. Оставалось задать вопросы, с которыми он приехал, даже если ответы вновь окажутся неприязненными.
— Ты когда-нибудь разговаривала с твоей матерью о нашем браке?
— Твоей матерью… Разве нельзя сказать просто «матерью» или «Лизой», как говорят другие мужья? Ты так подчеркиваешь, что она была моей матерью, словно… словно…
— Разве твоя… разве мать не говорила, что не любит, когда я ее так называю?
— Нет, она вообще никогда не говорила, что не любит чего-нибудь из того, что ты делаешь.
— Помнишь, что происходило одиннадцать лет назад? Ты сдавала тогда экзамены на аттестат зрелости, и летом…
— Можешь не рассказывать мне, что я тогда делала, сама знаю. Тем летом мать повезла меня на неделю в Венецию, чтобы отметить сдачу экзаменов. А в чем дело?
— Она говорила что-нибудь обо мне во время той поездки? О нашем браке? Или, может, о другом мужчине?
— Нет, не говорила. А тебе должно быть стыдно задавать о ней такие вопросы. Стыдно. — Она вышла из гостиной, тут же вернулась с двумя полотенцами. — Возьми. Можешь идти в ванную. Разбужу в семь, завтрак в половине восьмого. Спокойной ночи.
Он хотел обнять ее, но она шагнула назад, махнула ему рукой и быстро вышла из гостиной. Или, может, не махнула, а отмахнулась?
В ванную он не пошел. Ему стало страшно, появилось ощущение, будто для того, чтобы пройти по коридору, нужно больше мужества, чем сейчас у него имелось. Вдруг ошибется дверью, окажется в комнате дочери или ее мужа? Или в детской? Или выйдет на лестницу, а дверь в квартиру захлопнется? Придется звонить, выслушивать укоры, извиняться. К сыну он решил не ездить. Решил не навещать и лучшую подругу Лизы, которую собирался расспросить о Рольфе.
10
Утром он уехал, дом к этому времени опустел, дочь с мужем ушли на работу, дети отправились в школу. Он попрощался с ними запиской.
Поезд шел четыре часа. Город, в который он прибыл, был ему незнаком, но он отыскал нужную улицу и дом возле парка, в соседнем отеле снял номер. Развесив в шкафу одежду, отправился на прогулку. Улочка, на которой находился отель, пересекала проспект с широкими тротуарами и упиралась в небольшую площадь. Там нашлась скамейка, с которой можно было наблюдать за домом, где жил Другой. Собственно, это была поделенная на квартиры вилла в духе «Югендстиля», задняя сторона которой, как и у других соседних домов, выходила к ручью и парку.
Отправляясь в следующие дни на прогулку, он доходил до скамейки, которая всегда пустовала. Теплая погода располагала к тому, чтобы посидеть на этой скамейке, но до парка было рукой подать, там тоже стояли скамейки, и на них отдохнуть было приятней. Он задерживался ровно настолько, чтобы прочитать газету, вставал не раньше и не позже, после чего шел мимо дома, где жил Другой, пересекал ручей, уходил в парк. Каждый раз прогулка по одному и тому же маршруту совершалась немного позднее. Он строил планы. Как выследить Другого, как разведать его склонности и привычки, завоевать его доверие, нащупать слабое место. А уж тогда — он еще не придумал, как поступит тогда. Каким-нибудь образом он устранит Другого из своей жизни и из жизни Лизы.
Во вторник следующей недели около полудня он как раз сидел на скамейке, когда Другой вышел из дома. Костюм с жилетом, галстук, и в тон ему платок из нагрудного кармана. Пижон! Он выглядел сейчас более крупным, чем на фотографиях, был импозантен, шагал упруго. Дойдя до площади, он повернул на улочку, миновал перекресток, двинулся по проспекту. Через пару сотен метров он сел за столик уличного кафе с террасой. Не дожидаясь заказа, кельнер принес ему кофе, два круассана и шахматы. Достав из кармана книжку, Другой расставил фигуры и начал разыгрывать партию.
Когда Другой пришел сюда же на следующий день, он уже сидел за столиком с шахматной доской, на которой стояла партия Кереса против Эйве.
— Индийская? — Задержавшись у столика, Другой взглянул на доску.
— Да. — Белая ладья взяла черную пешку.
— Черным надо жертвовать ферзя.
— Керес тоже так решил. — Он взял белую ладью черным ферзем, который в свою очередь был взят белым. Поднялся с места: — Разрешите представиться — Риманн.