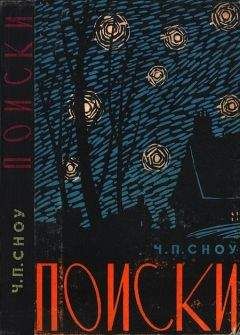— Вы ведь знаете его работы, — продолжал Тремлин, — Десмонд и Смит, Десмонд и Коллинз, и все в таком же роде. Коллинз работает сейчас в Лидсе и до сих пор старается вспомнить, каково было участие Десмонда в этих трудах, не считая того, что он весьма разборчиво написал на титульных листах свою фамилию.
Я запротестовал:
— Но как же он мог это сделать? Если бы это была правда, они же всегда могли вычеркнуть его имя?
— Экономический фактор — могущественная пружина человеческой деятельности, — сказал Тремлин. — Дружеские отношения с Десмондом таинственным образом помогают молодому ученому делать карьеру. — Он чуть заметно улыбнулся. — Но мы должны помнить истину, которую вы, Майлз, безусловно, уже слышали: раз уже дело сделано, не так важно, кто получит от него выгоду.
Возвращаясь после обеда в лабораторию, я некоторое время раздумывал, справедливо ли высказывание Тремлина о Десмонде. Совершенно очевидно, что он не беспристрастен. У меня еще не было опыта распознавания тайных мотивов человеческих поступков, но академический цинизм — не лучшая маскировка. И все же… и все же там, видимо, что-то есть. Я был молод и увлечен наукой, но я не был дураком, мне было совершенно ясно, что с мошенничеством можно столкнуться всюду. Правда, я не совсем понимал, почему мошенник может улизнуть от ответственности с такой легкостью, как это, по-видимому, делает Десмонд. А, ладно! — решил я. Просто нужно держаться подальше от десмондов, не так уж это трудно. И я пошел работать.
3
К концу сентября мой прибор был уже почти готов. Я пережил тревожную неделю, когда мне никак не удавалось заставить ионизационную камеру проявить хоть какую-нибудь чувствительность. Однажды утром, после того как я в течение пяти долгих дней безуспешно питался как-то исправить положение, мне захотелось швырнуть мой прибор об пол и растоптать его ногами.
— Будь ты проклят! — бормотал я. — Чтоб ты провалился!
Устыдившись, я вернулся к столу, вытащил свой журнал для записей и написал: «Возможные причины нечувствительности ионизационной камеры: а)…»
Это помогло мне успокоиться, а на следующий день поздно вечером я обнаружил причину. Я отправился к «Романо» и выпил перед стойкой кружку пива. Мне вдруг пришло в голову, что я очень давно не ощущал вкуса пива во рту. Вечера нашего последнего семестра в университете казались невообразимо далекими. Но я был счастлив своей усталостью — еще месяц целеустремленного труда, и я смогу получить первые результаты. После рождества я уже буду работать головой, а не руками. Я смогу приступить к осуществлению моих идей.
На следующей неделе приехал Шерифф, побледневший, но деятельный и бодрый; он болтал что-то о любовной интрижке, которую завел в больнице, и был полон замыслов в отношении своей будущей работы. В первый же вечер мы с ним отправились в Хаммерсмит, сидели там, пили и разговаривали. Однако потом, стремясь наверстать упущенные два месяца, он стал работать еще напряженнее, чем я, и до конца года почти не выходил из лаборатории. Как-то вечером я зашел к нему. У меня было свободное время, потому что заказанный мною кристалл еще не был получен. Я расхохотался, увидев его в полном отчаянии над грудой разбитых стеклянных трубочек, выскользнувших у него из рук перед самым моим приходом. Но зато потом, когда я смотрел, как он восстанавливает разбившийся прибор, как смешно раздуваются его щеки, когда он выдувал стеклянный тройничок, я ему позавидовал. Я знал, что никогда не буду обладать такой легкой уверенностью рук, такой высокой техникой. Я подумал, что на моем месте он изготовил бы установку уже месяц назад. Но после этого у Шериффа не оказалось бы идей, чтобы ее использовать. Вероятнее всего, он избрал бы какую-нибудь заурядную тему. Так думал я с завистью, которую всегда ощущал, сталкиваясь с людьми, обладавшими конструкторскими талантами.
В последнее воскресенье перед рождественскими каникулами Шерифф потащил меня на чай к своему руководителю. Профессор Хэлм всегда по воскресеньям принимал гостей, и, хотя приемы устраивала сурового вида домоправительница и все угощение составляли тоненькие бисквиты и слабый чай, его дом в эти дни заполняла толпа студентов и их друзей. Он очаровывал всех. Для очень многих, я думаю, он был героем их научных мечтаний, образцом ученого, каким они хотели бы стать. На меня он тоже произвел сильное впечатление, когда Шерифф представил меня и я увидел тонкое аскетического склада лицо с глубокими морщинами. Он улыбался гостям, охотно разговаривал с ними, как равный с равными. Рассказывал о том, как начинали научную деятельность в его время. Ему явно доставляло удовольствие, пользуясь своей репутацией человека не от мира сего, проявлять житейскую мудрость. Я помню, как мы рассмеялись, когда он сказал: «Досаднее всего, что ни одному промышленнику никогда не пришло в голову купить меня. И мне за всю мою жизнь ни разу не представилось случая совершить бесчестный поступок, хотя я уверен, что мне бы это удалось».
Когда мы вышли из его дома на темную и грязноватую улицу в Челси, Шерифф сказал:
— Он ближе всех к святости, если только ее можно найти в наше время, Артур. Думаешь о его карьере — как все просто! Главное, идти в ногу со временем. А до чего же он прост, искренен и мудр! Нет, право, он святой, святой в науке!
И дома во время рождественских каникул, совершая долгие одинокие прогулки по раскисшим полям, я не раз мыслями возвращался к Хэлму. Для меня, обуреваемого беспокойством, трепещущего на пороге своих первых открытий, он олицетворял умиротворенность после завершенного пути. В нем было то спокойствие, которое, как я представлял, пришло к Фарадею довольно рано. Я думал, что никакая другая жизнь не может принести большего удовлетворения; я пытался вообразить себя достигшим их безмятежности, но мне не удавалось. Я не мог себе представить Хэлма таким, каким был тогда я, мучающимся неудовлетворенностью после трех месяцев работы, не уверенным в том, как скоро и в какой мере мой труд окупит себя.
Как только лаборатория открылась, я немедленно вернулся в Лондон, и дела с первого же дня пошли как по маслу. Наконец-то установка стала приобретать под моими руками окончательный вид. Каждая деталь получалась даже чуть лучше, чем могла бы; мне просто удивительно везло: почти не было поломок и непредвиденных случайностей. В середине февраля установка начала работать. Пробные испытания с кристаллом бромистого натрия (заказанного мною от избытка чувств еще пять месяцев назад) прошли прекрасно. Я стоял чуть отступя и смотрел на свою установку — на сверкающую рентгеновскую трубку, внутри которой метался, вспыхивая, разряд, огражденную проволочной сеткой; на сетке я повесил табличку «Опасно — 2000 вольт»; великолепная конструкция из стекла и металла в защитном кожухе, черный квадрат ионизационной камеры, яркое пятно на шкале гальванометра — сверкающий кружок, на фоне которого видна черная вертикальная черта.
Я просто не мог налюбоваться на свою установку.
4
За прошедшие месяцы я весьма тщательно разведал возможности кристаллографии, и к тому времени, когда установка была готова, я совершенно точно определил, в каком направлении пойдут мои исследования. В своих замыслах на первых порах я исходил главным образом из соображений целесообразности, ибо я, конечно, не мог рассчитывать на то, что университетские власти примут на веру мои выдающиеся способности. Я должен был доказать им это в соответствии с их требованиями. После этого я собирался пойти своим собственным путем, и я уже знал, каков будет этот путь.
Для начала я решил взять несложную тему. Она была не так уж увлекательна, но почти наверняка должна была дать мне определенные результаты. Итак, я принял решение немедленно начать исследование структуры некоторых манганатов; я был почти убежден в том, что расположение атомов в них сводится к одной из простейших симметрий, и тем не менее по каким-то причинам структура их была до сих пор не исследована. Если я смогу решить эту проблему, я создам себе известную репутацию.
Я обдумал все это со всей возможной объективностью, Я мечтал взять затем какую-нибудь крупную тему. У меня был план заняться одной из простейших групп органических соединений, о структуре которых еще никто не задумывался. Я уже представлял себе метод анализа с использованием приема аналогии, который я впоследствии действительно применил. Я был настолько самоуверен, что заглядывал еще дальше в будущее — в область белковых веществ и других жизненных субстанций, чьи химические формулы были еще неизвестны, — я был уверен, что при наличии мужества и удачи кристаллография может привести меня и в эту область. Но нужно было ждать, еще не пришло мое время. Излагать сейчас мои истинные планы было бы идиотизмом, это выглядело бы мальчишеством, и меня наверняка сочли бы нужным не только не поощрить, но и одернуть. Это было бы похоже на первую речь молодого члена парламента, который вносит туманное предложение об уничтожении трущоб.