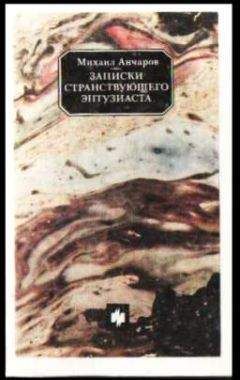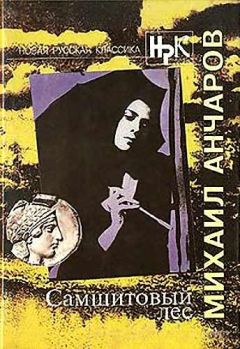Художник знает, как трудно добиться верного силуэта ноги. От колена до щиколоток идет чуть кривая кость, которая спереди хорошо видна. Но сзади к ней приросла икроножная мышца, которая выступает по обе стороны кости плавными пузырями. Но так как пузыри несимметричные, то и приходится их гонять по рисунку вверх и вниз, на глазок, чтобы получилась не карикатура ноги, а нога. И тут оказалось, что край наружного пузыря как бы продолжается в крае внутренней щиколотки. То же самое и со второй линией — от внутреннего края колена к наружной стороне щиколотки. То есть эти пересекающиеся, как ножницы, волосные линии, которым не было оправдания ни в анатомии, ни в «обрубовке», точно и без всяких хлопот выстраивали мне ногу. И так далее и так далее. То есть, как система координат эти линии уже работали. Подошел профессор и кивнул. — Хорошо строишь, — сказал он.
Я тоже кивнул. Неужели не видит? Нет. Не видит. Линии множились и строили мне фигуру.
Я обнаглел. Я уже не проводил по одной волосной еле видной линии, я действовал сразу пучками, тоже еле видными, как туман. И вот, когда пучок пересекал пучок, то на скрещении туманов образовывались пятнышки — сдвоенные слои «туманов».
Слава богу, что не стал вытирать их ластиком. Я решил, что сделаю это потом. Главное — это построение. Но когда я потом взглянул на эти пятнышки, я обнаружил, что они начинают образовывать тени.
Я не рисовал теней. Они образовывались сами. Мимоходом. В процессе построения. Каждый рисовальщик знает, как трудно моделировать, лепить живую плоть тенями, особенно если они легкие, если они полутона. А неверно положенная тень, — это неверно изображенная форма, которая эту тень образовала. Вот и гоняют эти легкие тени выше, ниже и меняют их контуры в надежде, что зритель сам догадается, какая форма слегка или сильно от света отвернулась. А если свет ровный, рассеянный? А если при первом взгляде живая плоть — это блин? При первом. А при втором — видно, как эта плоть божественно лепится. Сколько скрытых художниковых слез пролито! А у меня моделировка получалась сама. Сама! Я о ней не заботился. Я только строил форму по каким-то неведомым линиям, а тени сами скапливались, одновременно, в уголке глаза и в уголке рта — когда я нахально перекинулся на гондольерово лицо.
А ракурсы? Если протянуть руку или ногу вперед, то даже на фотографии они выглядят коротышками. А в натуре из-за одних бугров мышц выглядывают другие бугры, и от этого силуэт усложняется еще больше. И от этих мучений я был избавлен. Ракурсы выстраивались сами собой. Я бугры не рисовал. Я рисовал линии.
Когда уже я в один сеанс заканчивал рисунок, который был рассчитан на многие часы возни и мазни, я поднял голову и увидел, что за моей спиной столпилась чуть не вся наша группа. Они были задумчивые.
- Здорово продвинулся… — сказал лучший рисовальщик нашего курса.
Он приехал в Москву из одесского училища и был учеником чуть не самого Костанди. Я видел одну великую картину Костанди. Может быть, у него были и другие великие картины, но одну я видел точно. На ней было изображено… Но об этом в другой раз, когда речь пойдет о композиции, о картине, не знаю, как и назвать то целое, для которого все остальное лишь подготовка. Я кончил рисунок.
- Врубелем увлекся?.. Зря… — сказал профессор. — Он многим головы заморочил.
И я вспомнил, где я видел нечто подобное. Только в двух работах Врубеля. Потом я нашел еще и третью, «Тамара на смертном одре» — черная акварель прекрасного лица с закрытыми глазами и «Всадник» — неистовый конь и пригнувшийся к гриве человек, тоже черная акварель. Потом, несколько лет спустя, я увидел, что лицо «Сидящего демона» написано так же. Остальное тело было написано обычно. Нужный цвет на нужном месте. По анатомии. Хотя какая у демонов анатомия — сравнивать не с кем. Но это потом, когда «Сидящего демона» наконец впервые после войны выставили в Третьяковской галерее, чтобы мы все видели. А тогда, когда я открыл эти «переломы», эту картину почему-то не показывали. Или я ошибаюсь?
15Дорогой дядя!
Я назвал эти линии «переломами», потому что больше всего это было похоже на то, как если бы они возникали на стыке света или полутона или тени, то есть там, где форма, отворачиваясь от света, как бы переламывается.
Все так. Но я и тогда и теперь не умею объяснить, почему она переламывается, отворачивается от света одновременно где-нибудь у виска, в районе глаза, продолжается в углу губы и заканчивается на подбородке. То есть возникают ни анатомией, ни «обрубовками» не объясняемые, загадочные повторы, которые придают живой форме ритмическую законченность.
Речь идет о рисунке, то есть о черно-белом взгляде на вещи. Цветное мышление и нецветное — это отдельные дела.
Почему важно было об этом узнать? Потому что цвет с формой в картине спорит, и я наконец понял, почему, нарисовав форму даже переломами, я не могу ее выполнить цветом. Конечно, если я хочу получить живопись, а не раскрашенный рисунок. Но о цвете тоже потом. У него совсем другие законы.
Я сначала хотел было обо всем этом написать в подробностях и атмосфере тех давних времен, чтобы читатель как бы опрокинулся в собственную память или в чужую. Но я потом решил описать все это в атмосфере сегодняшних времен. А атмосфера сегодняшних времен — это, прежде всего, мысль. Но мысль в искусстве, в том числе и словесном, это не просто обработанная сознанием информация, а еще и образ. Поэтому она не «подготовительный рисунок к чему-то», а «искусство рисунка», его пафос, его стиль наконец. Поэтому я стал все описывать в стиле «искусства рисунка». Очень хочется дальнейшее выполнить живописно, краской. Однако истинный рисовальщик знает, что на каком-то уровне рисунок начинает вызывать ощущение цвета, он уже почти цвет, или, во всяком случае, его предчувствие. Это значит, что в человеке все связано.
…Я приехал в Ленинград. Первый раз в жизни. И вот — Эрмитаж. Тоже первый раз в жизни, а раньше — только репродукции.
Не хочу описывать первую встречу с подлинниками. А то расстроюсь, и будет не рисунок, а смазь. Ну, нет у меня кожи, нет. Ну, что поделаешь. Значит, я человек без кожи и должен это учитывать. Я и учитываю, как могу. Но все время, как дурак, поддаюсь на ласку. Я и сейчас думаю, что это высшее, чем человека можно одарить. А тут дело было чистое. Подлинники. Ласка в первом лице.
Да что там говорить. Я много чего пропускаю. Как стали меня хвалить за рисунок, как стали ругать за то же самое, за что хвалили. Как я рассказал нескольким ребятам, что к чему, и они стали лучшими рисовальщиками на курсе, и как стали у них портиться отношения с теми, кто теперь рисовал слабее. То есть я пропускаю все события, которые развивались по обычной мещанской модели. Упомяну лишь один незначительный случай, снова открывший форточку на свежий воздух природы и надежды. Был у нас один преподаватель, великолепный седой человек и художник что надо. Он говорил: художнику нужны три вещи. Первое — похвала, второе — похвала и третье — похвала. Но никогда не хвалил за ерунду. Он ее не замечал. Он считал, что она не заслуживает упоминания. Он разглядывал холст и говорил: вот в этом левом нижнем углу у вас прелестный кусочек. И все. Про остальное не говорил. Остальное художник делал сам. Но этот старик был с другого факультета.
Однажды он велел своим ученикам сделать по репродукции «Джоконды» рисунок ее рук. Скопировать в рисунке фрагмент картины. Это было необычное задание. Но старик знал, что делал. Ни у кого не получилось. Грубятина или жалобная растушевка. Тогда я одной его ученице рассказал про «переломы», показал их на натуре и опросил: видишь? Она сказала: «Вижу…» — и засмеялась. Я сказал: «А если попробовать?» — «А ты пробовал так копировать?» — «Никогда…»
Она попробовала. Вечером она позвонила мне по телефону. Она плакала и твердила: понимаешь, получается… понимаешь.
Я уже понимал. Кто видел руки «Джоконды», их тающую стройность, тот поверит, что никакой анатомией, никакими «обрубовками» этого не достичь. Только «сфумато». Ее рисунок вышел лучше всех, и старик смотрел на него с некоторым удивлением… Я пришел в Эрмитаж к открытию и знал, что уйду, только когда выгонят. Я знал, что и завтра поступлю так же. Денег у меня было скоплено на неделю такой жизни, и я знал, как ее провести. Поэтому я шел по залам, как подкрадывался, и пил из первоисточников, сколько хотел сегодня, без оглядки, без всякой систематизации по школам, временам и стилям. Художники, которые написали картины, меньше всего думали об этом. Я поступал так же.
В холсте Эль Греко «Апостолы Петр и Павел», в руке одного из них, в той, что кулаком опирается на стол, я спокойно увидел «переломы». Только несколько вытянутые по вертикали. Спокойно, потому что я уже знал, что механически превратить рисунок «переломами» в живопись невозможно. У колорита другие законы. Эль Греко их знал. Можно было только мечтать узнать не только их, но и как связать цвет с «переломами» в одно стилевое целое. Эль Греко это иногда удавалось, но, может быть, он не придавал этому значения? Я подозревал, что этот секрет знал Веласкес. Я подошел к Веласкесу. Нет. Ни в портрете «Филиппа», ни в «Оливаресе» я их не заметил. Ну нет, так нет. Но потом, после Ленинграда, я в репродукции с его «Мениппа», во фрагменте головы, увидел, что она написана именно так. Репин был без ума от головы «Мениппа». При полной свободе кисти полная выстроенность. Можете сами посмотреть на репродукции. Подлинника я не видел. Он в каком-то иностранном музее. Много лет спустя, на крупной фотографии с портрета брата Рембрандта, того, что в берете, поверх могучих мазков я увидел «переломы», сделанные лаковой лессировкой. Этот портрет есть в Москве, в Музее изобразительных искусств. Но в подлиннике я их тоже не мог разглядеть. Они видны только на очень крупной черно-белой фотографии. Но если положить рядом даже обычные цветные репродукции «Портрета брата» из московского музея и какую-нибудь рембрандтовскую старушку, или даже другой портрет брата, то московский откроет какую-то таинственную, чуть грубоватую стройность. А в других этого нет. Ну ладно. Хватит уклоняться. Настало время тихонько, не дыша, подойти к двум картинам Леонардо да Винчи, которые я обнаружил в Эрмитаже.